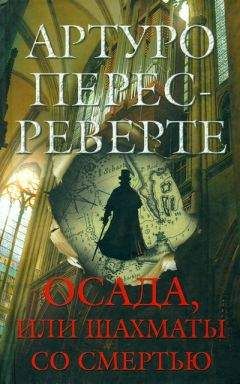Дон Альваро Вигаль бесконечно обрадовался визиту двух молодых офицеров из милой его сердцу страны, обрадовался не в последнюю очередь потому, что они могли хотя бы на время избавить его от привычного одиночества. Разговор шел по-французски — благо испанец свободно владел этим языком. Хозяин и гости поужинали при свечах в серебряных канделябpax, а после перешли в маленькую гостиную, где престарелый лакей, единственный слуга дона Альваро, подал им кофе и сигары.
По обыкновению меланхоличный Жуньяк — теперь Фредерику казалось, что он уже тогда предчувствовал близкую и страшную смерть, — весь вечер хранил молчание. Поддерживать беседу пришлось испанцу и Фредерику, и хозяин дома с наслаждением пустился в бесконечные рассказы о прошлом. Оказалось, что старик бывал в Страсбурге, и у него с юным эльзасцем нашлось немало общих воспоминаний.
Оба гостя были военными, действие происходило в Испании, и разговор, само собой, зашел о войне. Дон Альваро расспрашивал офицеров о планах Наполеона и восхищался гением императора. Хоть старик и принадлежал к старинному роду, никакого почтения к европейским королевским домам, включая испанский, он не испытывал и полагал, что лишь живительные идеи равенства и прогресса, порожденные Францией, способны удержать Старый свет от окончательного упадка. К сожалению, в Испании Бонапарта ждали тяжкие испытания, хотя он сам до сих пор этого не осознал.
Тут Фредерик позволил себе не согласиться с пожилым испанцем. Он заговорил о новой Европе без оков и предрассудков, которую французский гений поведет к счастливому будущему, о благотворных идеях, о Человеке, которому вернут его истинное достоинство. Испания, добавил он, томится в плену собственного прошлого, косного, мрачного и жестокого. Только приобщение к прогрессу освободит ее от гнета инквизиции, попов и бездарных правителей.
Дон Альваро внимательно выслушал юношу с улыбкой, полной иронии и невыразимой печали. Когда гусар завершил свою весьма страстную речь — Жуньяк поддерживал его отчаянными кивками — и откинулся на спинку кресла с пылающими от волнения щеками, старик придвинулся к нему и отечески похлопал по колену.
— Послушайте, мой юный друг, — произнес он на почти безупречном французском, но с раскатистым испанским «р». — Я нисколько не сомневаюсь, спасти Европу под силу только Наполеону Бонапарту, хотя в последнее время он делает слишком много ошибок. Я приветствовал его консульство, правда, когда он решил примерить императорскую мантию, мне, признаться, показалось, что это слишком… Впрочем, не в этом дело. Я не ставлю под сомнение политический гений Наполеона, и потому весьма скромные успехи испанской кампании…
— Весьма скромные?!
— Позвольте мне закончить — до чего же нетерпелива молодость. Я не виню Бонапарта, он просто не знает этой страны. Испанская нация — очень древняя, гордая и верная своим мифам, подлинным или лживым. Бонапарт привык к тому, что целые народы покоряются ему, и просто не ожидал, что Пиренеи не захотят покориться. И не важно, хороши или плохи идеи, ибо здесь людей, способных их принять… Испания не монолитна, господа офицеры. Она веками объединяла разрозненные королевства, которые до сих пор бредят свободой, выживала, боролась с маврами, ее земля и История породили особенную породу людей, злобных, упрямых и непокорных. А суровая, нетерпимая церковь сделала их фанатиками.
Дон Альваро замолчал на полуслове, будто ему не хватило воздуха. Слегка улыбнувшись бледными старческими губами, он обвел комнату, хранившую память об истории его собственной семьи, длинным, печальным жестом исчерченной синими узорами вен руки.
— Все это здесь, — сказал он очень устало, как человек, вынужденный вновь и вновь вступать в неравный бой со злом и всякий раз терпеть поражение. — Ржавые доспехи, портреты людей, давно превратившихся в прах… Видите? Ярких красок почти нет; на этих картинах и так преобладали темные тона, а время сделало их еще темнее. Много тени и совсем мало света, ровно столько, чтобы показать эти суровые и гордые лица, эти высокомерные губы, эфесы шпаг, распятия, высокие воротники… Никто из них не улыбается, друзья мои. Они мрачны, черны их одежды, и холодные краски портретов не способны передать ледяную тьму, царящую в их душах. Многие из них были поистине великими людьми; все без исключения усердно молились и страстно предавались разврату. Они не склоняли голов перед королями, но готовы были заискивать перед небритым деревенским священником. Они сражались во имя Господа и Короны по всей Европе, в Индиях и Северной Африке, воевали с протестантами, англичанами, мусульманами… Они были храбрыми солдатами, настоящими аристократами и верными вассалами. И все они, кроме тех, кому довелось встретить смерть в каком-нибудь совсем уж диком углу, исповедовались и причащались перед тем, как отойти в мир иной. Таким был мой дед. И отец… По иронии судьбы рядом со мной, последним потомком древнего рода, в смертный час будет только верный старый слуга. Если, конечно, мой Лукас не сыграет злой шутки и не умрет раньше меня.
Старик помолчал, печально глядя на портреты. Потом он повернулся к молодым офицерам и улыбнулся как-то жалко:
— Если в один прекрасный день император зайдет ко мне в гости, как вы сегодня, я буду рад познакомить его со своими предками. Возможно, тогда он поймет эту землю немного лучше.
Жуньяк, откровенно скучая, рассматривал галерею. Но Фредерика слова старика по-настоящему взволновали.
— Странно слышать от вас подобные вещи, — осторожно заметил он. — Вы ведь испанец, дон Альваро, а сами исповедуете религию Идей. Вы только что показывали нам свою библиотеку… Отчего же такие люди, как вы, не хотят стать вождями соотечественников, направить их на истинный путь? В истории есть немало примеров того, как образованное меньшинство освобождало целые народы от мрака невежества, распахивало окна, чтобы каждый дом наполнился светом разума, разгоняло мрачные призраки, показывало всем, что границ не существует и человечество должно объединиться, чтобы идти вперед.
Старый аристократ грустно улыбнулся:
— Послушайте, друг мой. Давным-давно, когда Испания правила всем миром, еще один император мечтал о том же, о чем сейчас Бонапарт: объединить Европу. Он родился за границей, во Фландрии, но стал испанцем настолько, что незадолго до смерти отрекся от престола и удалился в монастырь в местечке под названием Юсте. Этот император, возможно, величайший правитель всех времен, много воевал, всю жизнь соперничал с Францией и не только боролся с оплотом европейской независимости, коим считал лютеранство, но и беспощадно искоренял испанскую гордыню. Он боролся и проиграл, и тогда его сын Филипп, фанатик с черной душой, уничтожил мечту своего отца. Наступил золотой век инквизиции и попов. Пиренеи стали препятствием не только для людей, но и для идей… В последние годы Испании наконец достиг ветер перемен, и она стала потихоньку выбираться из пропасти. Сторонники прогресса увидели в революции, свергнувшей Бурбонов, знак того, что времена действительно меняются. Бонапарт и Франция подарили нам надежду… Незнание страны и слабость наместников оказали Императору скверную услугу, но как замечательно все начиналось… Нет, испанцев нельзя спасти насильно. Уж лучше мы будем спасать себя сами, постепенно, не ломая сразу старых порядков, которым подчинялись слишком долго. В противном случае мы обречены. Штыками здесь не насадить ни одной идеи.
Упоминание штыков вывело Жуньяка из оцепенения. Прежде чем начать говорить, он откашлялся с довольным видом человека, наконец нашедшего интересную тему для беседы.
— Но ведь теперь здесь новый король, — убежденно заявил молодой человек. — Мадридские кортесы признали Жозефа Бонапарта. А если испанская армия не хочет ему присягать, есть мы, чтобы защитить трон.
Дон Альваро с усмешкой наблюдал солдатские манеры Жуньяка. Он покачал головой:
— Не обманывайте себя. Я слышал о том, что несколько смелых и прогрессивных депутатов кортесов призывают к союзу с Францией, в котором они видят спасение нации. Но эти господа слишком далеки от народа; они не способны видеть дальше собственных носов. Посмотрите вокруг. Испания — кипящий котел, в каждом городе зреет восстание. Вы, французы, не оставили нам выбора. Придется воевать, и, попомните мои слова, это будет страшная война.
— Мы победим в этой войне, сеньор, — заявил Жуньяк с покоробившим Фредерика высокомерием. — В этом можете не сомневаться.
Дон Альваро улыбнулся мягко и устало:
— Боюсь, что нет. Боюсь, вам не победить, господа; это вам говорит старик, который любит Францию всем сердцем и давно уже не может защищать свои убеждения с оружием в руках, а если бы мог, то взял бы саблю и пошел бы воевать бок о бок с этими фанатиками и дикарями; и тогда мне пришлось бы сражаться против того, во что я страстно верил всю жизнь… Не так-то просто все это понять? Вы правы, очень трудно, и, боюсь, сам Наполеон, поистине великий человек, ничего не понимает. Второго мая в Мадриде между нашими народами пролегла пропасть; пропасть, наполненная кровью, в которой утонули надежды многих людей, вроде меня. Я слышал, что, получив от Мюрата донесение об этой чудовищной бойне, Бонапарт заметил: «Отлично, это их утихомирит»… Но он страшно ошибается, друзья мои. Ничто нас не утихомирит. Французы предложили нам превосходную конституцию, воплощение всех наших чаяний и надежд. А еще они разграбили Кордову, насиловали испанских женщин, расстреливали священников… Ваши действия, само ваше присутствие здесь оскорбляют мой темный, упрямый, мой гордый народ. Остается только война, война именем ублюдка Фердинанда, теперь он — символ нашего сопротивления. Это ужасно.