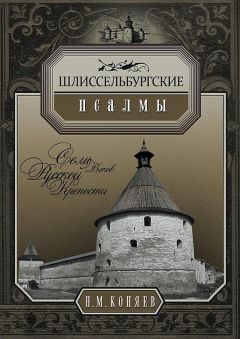Беседа их затянулась до сумерек, а Степан и не замечал времени.
– Москва, стольный град, Степанушка, – третий Рим, четвертому не бывать! Ты слыхивал о великом Риме?
– Не слыхивал.
– Ну и дурь голова. Пора бы знать. – Черкашенин погладил старой, шершавой ладонью голову Степана. – Рим-то хорош, а Москва лучше. Она яко великое солнце на великой нашей русской земле. Красуется Москва церквами деревянными и каменными, людьми терпеливыми и гордыми, незыблема стенами и умами. Места Руси обширные, привольные, преизобильные во всем. На Руси у нас всякого угодья много, и не можно обрести его в других странах. И красотою, и крепостью, и богатствами человеческими наша великая Русь никому не уступит. Бывал я в Чудовом монастыре. Вот где богатство! Золото! Серебро! Иконы дивные! Ризы на попах – глаза разбегаются! И в Москве богатств много, но и нищих множество, калек, больных… Иные бродят по Москве как тени загробные, валяются в ямах прямо на улицах. Неимущим негде свою голову приклонить. Так и скитаются… Юродивых, куда ни пойдешь, найдешь. Бездомные помирают с голоду, замерзают в переулках, а то и прямо на Красной площади. Но зато бояре живут, процветают, богатеют, людей черных морят с голоду, грабят, где можно, изнуряют тяжкими работами. Сами они в тюрьму попадут – живут здорово. В монастырь попадут, опалой сосланные, – живут, блаженствуют. Вот разве голова у которого боярина слетит на плахе, тогда считается – был-де такой боярин в ответе перед царем…
Степан заслушался, затих, глубоко задумался.
– Пойдешь по Руси, Степанушка, всего наглядишься. Только, мой совет, повремени. Тебе же ведомо, что люди бедные, разоренные, обиженные, обездоленные бегут с Руси к нам на Дон, счастья да своей доли ищут. Им тут вольнее и сытнее…
– А какова их доля у нас? – сказал Степан. – Беспорядков и у нас немало. Азов-крепость брали дружно, а взяли – передрались, головы один другому стали снимать, едва атамана Татаринова не зарубили, да и тебе, дедусь, хотели было сбрить голову саблями. Почто мятеж учинили? Добра не поделили. Атаманская булава заморочила дурные головы. Понарубили-то сколько – кладбище новое выросло у стен города. Нескладно, дедусь, и у нас. И мне без дела сидеть в Азове, глядеть на стены каменные нет охоты. Дон-реку покидать жалко, на степях вырос, под донским солнцем грелся…
– Повремени, Степан, на Руси ты еще будешь… А в Азове-городе дел для тебя тоже хватит. Пойдешь на Черное море с атаманом Осипом Петровым громить турецкие галеры. Пойдешь с Наумом Васильевым к Бахчисараю – татар бить. И под Азовом разыграется такое – а непременно разыграется, – какого ты еще не видывал. Турский султан никогда не помирится на том, чтоб отстать от крепости. Тут такие дела начнутся!.. Торговля пойдет, другие народы будут съезжаться к нашей крепости, купцы из Москвы будут, из Киева, Казани, Астрахани. Наглядишься на все, побываешь в важных казацких делах, и тогда – с богом… Иди в Москву. Но люди поговаривают: как только султан завоюет Багдад, он непременно двинет турское войско к Азову, и тут будет великая битва, а мы, люди русские, оставить сию крепость не можем. Так-то, послушай ты старика всерьез и не ходи пока с Дона.
Степан помолчал, подумал – и решил остаться на Дону.
Светло-зеленая луна задержалась над высокими, грозными бастионами. Таинственно и нежно осветила она просторную, совсем недавно угомонившуюся крепостную площадь. Широкая луна беззаботно купалась в сверкающей реке, обсыхая в бархатистых и мягких травах. Торжественно и медленно она проплывала по фиолетовому небу предначертанным ей путем.
Сказочная угрюмая тишина стояла на обширном пространстве вольной донской земли. Посредине Дона переливалась серебряная гладь. Волны еще не плескались. Казалось, Дон не тек, а стоял неподвижно. Но уже затеплилась далеко на востоке утренняя заря…
Первыми просыпаются прожорливые рыбехи: мелкий сазан, селява, стремительная чехонь, стерлядки. Они проворно выскакивают из серебристой глади, взмахивают, вынырнув из воды, хвостом и шлепаются, сверкнув чешуей, в воду. Сколько тут рыбы! То там, в затончике, то здесь, у самого отлогого берега, только и слышно: бульк-бульк-бульк.
Разыгралась рыба на ранней заре. Разыгралась так, что и спокойный Дон, словно от веселья, покрылся густой перебегающей мелкой рябью. Тепло будет.
Против размахнувшегося широко течения с быстротой птицы, неглубоко под водой и на поверхности ее, мчатся длинные косяки мелкой рыбы. За ними, словно за резвыми табунами коней, гонятся хищники – так быстро, что, разрезав острым носом воду, оставляют позади себя белую ершистую пену. Длинноспинные, сероватые, они напоминают просмоленные казачьи струги, перевернутые днищами кверху. Это белуги, каждую из которых можно уложить на две подводы.
Над косяком рыбы кружатся вечно голодные прожорливые чайки.
Над проснувшейся степью уже взмыли высоко в небо, вскружились степные орлы. В густых камышах проснулись вертлявые кряквы. Медленно поворачивая головы, осторожно и важно ступая, вышли цапли за ранней добычей.
Солнце поднялось над землею. Оно взошло, искристое и светлое, теплое солнце. Его ждали воды и травы, леса и луга. Его ждала отдохнувшая за ночь земля. Его ждал человек.
Настало утро.
Грозно и тяжело, со скрежетом и лязгом, открылись железные ворота Азова. Казаки, по пояс голые, с гиком, с криком погнали строевых лошадей в низину Дона.
Кони, поднимая густую пыль, влетели один за другим легкой бурей в свежую воду. Густая, отчетливая дробь копыт отдавалась эхом на том берегу реки, за ближним леском, за крепостью.
На белом коне Татаринова грозой выскочил Стенька Разин. Летит, будто ничего не видит – ни земли, ни солнца. Душа млеет от радости и счастья, когда он сидит на атаманском коне. Глаза горят. В левой руке – поводья дорогой уздечки, в правой – наотмашь плеть. Босой, загорелый. Светло-русые волосы разлохматились, секут по глазам, а он крепче прижимает запыленными пятками шелковистые бока Черта. Вскочил Стенька на кручу и, словно безумный, стремглав полетел в реку. Белая высокая волна скрыла под собой отчаянного седока, прилипшего к спине коня.
– Стенько, Стенько! – закричала с высокой насыпи испуганная Татьянка. – Уто-о-о-нешь… Батяньке скажу-у-у-у! Атаману войска скажу! – Приложив руку козырьком ко лбу, Татьянка прижмурилась, глянув на солнце, и так застыла в своем синеватом платьице под лучами солнца. – Утонет! – проговорила она и села на землю.
Посредине реки показалась белая голова лошади с раздувшимися ноздрями. Атаманский конь тяжело плыл назад, переваливаясь с боку на бок.
Но где же Степан? Куда он подевался?
– Стенько! Стенько! – звала его Татьянка и, не услышав ответа, вскочила, побежала к Дону.
Белый конь, лоснясь на солнце, встряхиваясь, остановился возле молодой осоки, повел ушами, стал лизать голую спину Стеньки, лежавшего на песке.
– Стенько! – отчаянно вскрикнула подбежавшая Татьянка. Слезы брызнули из ее глаз густым градом. Горячие, покатились по вздрагивающим щекам, окропляя платье, скатываясь на теплый прибрежный песок. Татьянка не без страха подошла к парнишке. Одна сверкнувшая на солнце слезинка упала на голову Степана и затерялась в его мокрых волосах. Конь лизал бронзовую спину юноши, пытался ущипнуть ее губами, осторожно хватал крепкими зубами за мокрые штаны.
Степан лежал, не шевелился.
Всплеснув руками, побледнев, Татьянка вскрикнула:
– Утонул! Господи! Стенько утонул! Да что же теперь будет?
Стенька повернул голову, широко открыл глаза:
– Ну что горланишь-то? Аль не видишь, дуреха-рыбеха, я коня испытываю… Поди-ка ты отсюда прочь! Поди, говорю, прочь! Не дело тебе, бабе, бегать за казаком.
Татьянка совсем смутилась. Ее густые ресницы запрыгали, глаза заулыбались, губы раскрылись, сами засмеялись:
– Ты коня испытывал?.. А я думала… Смешно!
– Коли тебе смешно, поди поскорее прочь! Сказано! А коли не смешно, возьми коня за узду да подержи. Встану да в Дон его поведу.
Татьянка держала коня за узду, а Степан, у которого лицо было в мокром песке и глине, пошел умываться в Дон. Конь танцевал, перебирая ногами, рвался вслед за Степаном, вытягивая крутую, гибкую шею.
– Ино каково у нас вышло? Испугалась! – черпнув ладонями воду, сказал Стенька коню. – Ты погоди! Я тебя еще не таковым наукам обучу. Будешь ты у меня смышленый конь, всю конскую грамоту одолеешь…
Умылся Степан, вскочил на коня, снова кинулся в Дон. Там, подальше от берега, многие казачьи кони взбивали копытами белую пену до небес; возле коней барахтались казаки, прыгали с коней и так задорно смеялись, что их веселый смех слышен был далеко в степи, в крепости, за курганами.
Гололобый, черноусый запорожский казак тянул за уздечку в воду вороного коня, а он, высокий, тонкий, упрямый, взвивался, как змея, становился на дыбы. Не любо ему лезть в воду. Ему бы в степи гулять-резвиться. Он норовил оборвать повод, сбить голого казака, накрыть его копытами. Казак тоже был упрямый. Он ловко вскочил на спину вздыбившегося коня и что есть силы сжал ногами его упругие бока.