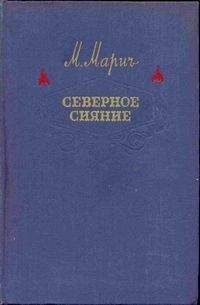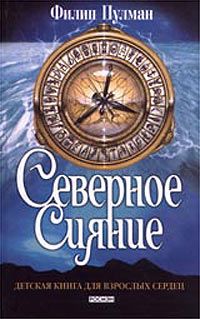— Сначала они теснятся в моей голове, — продолжал тот, — затем переливаются в разговоры с друзьями и письма к близким, потом становятся достоянием более широкого круга, а когда-нибудь, сделавшись народным достоянием, потребуют удовлетворения и, встретив сопротивление, разрешатся революцией.
Лицо Лунина оживилось, глаза стали похожи на прежние лунинские глаза — сверкающие живою мыслью и острым, искрометным умом.
— Помнишь прокламации, которые разбрасывались в казармах семеновцев и среди людей Черниговского полка покойным Сергеем Муравьевым-Апостолом и его товарищами? Разве эти запретные листки не явились искрами, из которых возгорелось пламя восстания этих исторических полков?
— Но что можешь сделать ты в этом заброшенном за тридевять земель Урике? — с горьким недоумением спросил Оболенский. — Какими путями донесешь ты до народа свои идеи?
— Ты знаешь мою сестру Катерину? — с живостью произнес Лунин, и глаза его потеплели.
— Мы все преклоняемся пред Катериной Сергеевной за чувства, которые она проявляет к тебе неизменно в течение уже более десяти лет, — ответил Оболенский.
— Да, одна такая сестра — замена множества опекунов и друзей, — дрогнувшим голосом проговорил Лунин. — Ее дружба во все периоды моей бурной жизни не переставала сиять мне, как радуга среди облаков… Так вот… ты спрашиваешь о путях распространения моих идей? Они уже найдены, мой друг. Прежде всего — это мои письма к сестре Катерине Сергеевне. Они пишутся собственно не к ней. Читают их не только московские и петербургские знакомые моей сестры, а еще очень многие. Это мне известно достоверно. Письма мои служат выражением убеждений, которые привели меня в темницу, на каторгу и в ссылку. Гласность, которой они пользуются через многочисленные списки, обращает их в политическое орудие, которым я действую во имя свободы.
Лунин был прав. Приказав почтовому ведомству тщательно читать письма ссыльных, корпус жандармов и тайная полиция не учли одного серьезного обстоятельства: среди тех же почтовых чиновников находились такие, которые, прочитав эти письма, задумывались над их содержанием, проникались их идеями и, переписав, часто относили домой, чтобы прочитать еще раз в семейном или дружеском кругу.
Письма Лунина пользовались особенным успехом. К почтовым чиновникам, через руки которых они проходили, стали наведываться то сельские учителя, то уездные фельдшер или врач, то чиновник какого-нибудь ведомства с осторожной, но настойчивой «покорнейшей просьбицей разрешить списать послание уриковского поселенца». А затем письма эти переписывались снова и снова с таким же усердием, как некогда переписывались запрещенные стихи Рылеева, Пушкина… Их читали в самом Урике, в Иркутске, Верхнеудинске, Минусинске, по Уде и Селенге, по Ангаре и Енисею, на границе с Китаем, в Кяхте, по всему обширнейшему Забайкалью, на Урале, по Волге, в Москве и Петербурге.
— Да как же Катерина Сергеевна не боится пускать твои письма в обращение? — спросил Оболенский.
— Она моя сестра, а это означает, что чувству страха неподвержена, — гордостью ответил Лунин. — Кроме писем, я ей посылаю и мои статьи по разнообразным вопросам политической и общественной жизни нашей родины. В скором времени мне представляется очередная оказия отправить ей мою статью «Розыск исторический». Статья эта определяет мою точку зрения на основные моменты истории нашего отечества. Никита Муравьев сделал к ней интересные примечания. Мне остается только переписать их своей рукой, чтобы в случае чего не подвергнуть кузена Никиту лишним неприятностям… Через эту же совершенно надежную оказию я пошлю сестре и мой «Разбор». Я пишу ей, чтобы она переслала обе статьи в Париж Николаю Тургеневу. Ей это легко будет сделать через Александра Тургенева, который во время своих частых поездок за границу, несомненно, встречается с братом. А тот уж найдет способ напечатать мои статьи, как «свободный голос из-за Байкала».
— А если «Разбор» станет известен Третьему отделению и твою сестру начнут допытывать, как…
— Это уже предусмотрено, — перебил Лунин. — Я дал ей совет: в случае таких расспросов сказать, что получила она эту рукопись давно, от коменданта Выборгской тюрьмы, в которой я сидел после нашего осуждения, до отбытия на каторгу десять лет тому назад. Почтенный комендант сей умер и может быть привлечен к ответственности только на том свете, — шутливо закончил он.
Лунин не знал еще, что в то время как он неутомимо искал всевозможные средства борьбы с самодержавной властью, дальнейшая судьба его уже была предрешена…
— Ну, я пойду к Никите, — сказал Оболенский, допив свой чай, — он просил меня доставить ему записки князя Щербатова по русской истории. А ты к Волконским нынче вечером будешь?
— Обязательно.
Проводив гостя, Лунин принялся за очередное письмо к сестре.
«…Дражайшая! — писал он. — Человек, берущий на себя доставку сих строк, постоянно делал мне доказательства своего ко мне расположения и вполне заслуживает доверия. Ты позаботишься пустить и это мое письмо в обращение, размножив его также в копиях. Цель этого моего письма, как и иных, нарушить всеобщую апатию. Сперва я докончу мои мысли, затронутые в предыдущем письме о нескольких мильонах братьев, продаваемых оптом и в розницу, которые до сего дня не находят сочувствия нигде, кроме того, о котором говорили мы в Тайном обществе.
Оно одно поняло их общественное положение и протянуло руку помощи среди всеобщего невнимания и угнетения. Ни помещики, ни правительство, — хотя Тайное общество и указывало им на вопиющую несправедливость рабства и на неминуемую опасность, проистекающую из всякой несправедливости, — ничего не сделали за все годы после разгрома нашего Общества для облегчения судьбы крестьян и предотвращения надвигающейся грозы. Когда она разразится, у них не окажется никаких других средств, кроме военной силы. Но эта сила, действенная всегда против чужеземцев, может оказаться тщетной против русских. Кроме того, еще вопрос, согласятся ли наши солдаты, хотя и приученные к повиновению, обратить штыки против своих братьев. Луч сознания, который толкнет крестьян отстаивать свои права, сможет равно проникнуть и в солдатскую массу и из слепого орудия власти превратит их в благородного союзника угнетенных…
Теперь о журналах, кои ты мне присылаешь. С горечью вижу, что даже поэзия повесила свою лиру на вавилонские ивы. Правительство стремится превратить и литературу, и поэзию в столпы самодержавия. Периодические издания выражают лишь ложь и лесть, столь же вредную и для читателей, сколь и для власти, ее терпящей. Если бы мы могли из глубины сибирских пустынь возвысить свой голос, мы бы вправе были сказать руководящей партии:
«Вы взялись очистить Россию от заразы либеральных идей и окунули ее в бездну и мрак невежества, в пороки шпионства. Рукой палача вы погасили умы, которые освещали и руководили развитием общественного движения, и что вы поставили на их место?
Мы вызываем вас на суд современников и потомства. Отвечайте».
Екатерина Ивановна Загряжская, старая фрейлина высочайшего двора, родная тетка сестер Гончаровых, часто принимала у себя Пушкина в маленькой гостиной, где они подолгу просиживали на ее широком диване «самосон», и беседа их носила особый характер. Почти всегда бывало так, что Пушкин упрашивал Екатерину Ивановну рассказывать о прошлом, которое вставало в ее воображении яркими картинами. Поэт восхищался ее необыкновенной памятью, сохранностью манер и сочностью языка. Он любовался ею, когда, уйдя в воспоминания, она вся преображалась. Морщинистое ее лицо будто освещалось заревом далекого огня. За тусклой пленкой старости в глазах тоже словно отражался тот же огонь. И в голосе, повествующем о куртуазности ее времени, проскальзывали задушевные нотки.
— Уж мы с Катиш Раевской, — она тогда, овдовев, еще не вышла за Давыдова, — первыми проказницами были, — вспоминала Загряжская. — И хотя она много пригожей меня была, зато я поавантажней… Император Павел называл нас шалуньями. И вот однажды…
И лилась речь, которой Пушкин заслушивался в упоении.
Екатерина Ивановна знала все, что касалось ее любимой Ташеньки — жены Пушкина. Знала, что Дантес влюблен в нее без памяти, знала, что из-за этого возникли у Ташеньки большие неприятности с мужем. Знала об анонимном оскорбительном «дипломе», полученном Пушкиным и некоторыми из его друзей. Знала о вызове, сделанном Дантесу, и об отказе Пушкина от дуэли, после того как Дантес неожиданно для всех сделал предложение средней из сестер Гончаровых — Катерине. Понимала, что в этом внезапном сватовстве есть что-то неладное, какая-то хитро и зло сплетенная интрига, но думала, что авось все уладится и что «не то могло бы еще быть». Она имела в виду возможность скандального столкновения между Пушкиным и царем Николаем, который заметно отличал Ташеньку среди других светских красавиц. И когда состоялась свадьба Катерины, Загряжская, будучи через несколько дней в гостях у Пушкина, взяла его шутливо за ухо: