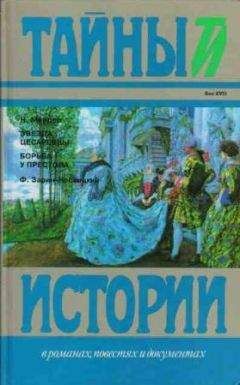престол герцогине Курляндской. А почему не Елизавете? А почему не принцу Голштинскому или Екатерине Мекленбургской? Как ещё не поспели сговориться — не Екатерине Долгорукой?
— Молчи, молчи, Данило Иваныч, — произнёс Чаплыгин, желая прервать этот разговор. — Поживём — увидим.
Макшеев молчал. Он вообще не занимался политикой. Ему было всегда хорошо; но под влиянием Шастунова и Дивинского он мало-помалу смутно начал понимать, что что‑то следует изменить, что надо как‑нибудь обезопасить себя от какого‑нибудь Ваньки. Как это сделать, он не знал, да и не хотел рассуждать об этом.
«Там разберут!» — думал он, разумея под словом «там» членов Верховного тайного совета, особенно фельдмаршалов, о подвигах которых слышал ещё в детстве.
Сидевший рядом с Новиковым молодой поручик что‑то тихо стал шептать ему на ухо. Новиков нетерпеливо передёрнул плечами и встал.
— Ужо потолкуем, — резко произнёс он.
С конца стола к Макшееву подошёл юный гвардейский офицер.
— Мы, кажется, знакомы уже, — произнёс он. — Я Преображенского полка Иван Окунев.
Вглядевшись в лицо юного прапорщика, Макшеев сразу узнал его. Вообще надо сказать, мало было в Москве гвардейских офицеров, которых не знал бы Макшеев. То в остерии, то на парадах при покойном императоре, то в каких‑нибудь весёлых местах, а то и в дружеской компании на частых пирушках он перезнакомился почти со всеми.
— Как же, как же, — отозвался Макшеев. — Знаю, знаю, помню. На крещенском параде рядом стояли.
Он дружески пожал руку прапорщику.
— Ещё мы встречались у Петра Спиридоныча, — сказал прапорщик.
— У Сумарокова? — спросил Макшеев, пристально глядя на Окунева.
— Да, — ответил Окунев. — Мы с ним ведь оба адъютанты у графа Павла Иваныча.
— Фью! — свистнул подвыпивший Макшеев. — Вот оно что! Вы счастливее вашего приятеля, — рассмеялся он.
Окунев недоумевающе и тревожно взглянул на него.
— Я давно не видел Петра Спиридоныча, — сказал он, бросая быстрый взор на прислушивавшегося Чаплыгина. — Вы что‑то знаете? Разве с ним случилось несчастье?
— Ну что, коли вы друг его, — отвечал Макшеев, — вам скажу. Друг ваш арестован в Митаве…
— Арестован! — в один голос воскликнули Окунев и Чаплыгин.
— Да, — продолжал Макшеев. — В Митаве. Чем бедняга провинился, про то знает Василь Лукич, только заарестовали его.
Побледневший Чаплыгин низко наклонился к Макшееву.
— Алёша, — сказал он, — не утаи, что знаешь. Друг нам Сумароков.
— Ей-ей, ничего не знаю, — ответил Макшеев. — Не успел ничего узнать. Как выехал из Митавы, так и встретил его.
И в кратких словах он передал всё, что знал.
— Я обо всём уже доложил князю Дмитрию Михайлычу, — закончил он.
Окунев сидел как опущенный в воду. Чаплыгин, бледный, в волнении, пил стакан за стаканом. И Окунев и Чаплыгин хорошо знали, зачем был отправлен в Митаву Сумароков, и знали, что теперь грозило ему, а с ним вместе и Ягужинскому, и всем близким к нему людям.
Кавалергарды хорошо звали графа Павла Ивановича, а Чаплыгин был одним из самых энергичных офицеров, имевшим большое влияние на своих товарищей. С домом Ягужинского его связывали давние дружеские отношения, существовавшие между его отцом и графом. Отец Чаплыгина был сенатором и умер незадолго до кончины императрицы Екатерины. Так же, как и Ягужинский, он ненавидел Меншикова и по мере сил противодействовал ему, в числе немногих, наряду с Ягужинским. После его смерти Ягужинский принял под своё покровительство сына Ивана и сумел привязать его к себе. Ягужинский был сильным и властным человеком, и все окружающие считали его положение непоколебимым.
Чаплыгин, веря в его могущество и значение, благодарный ему за оказанное покровительство, естественно, был на его стороне. Также и Окунев, избранный Ягужинским в адъютанты.
Судьба этих офицеров оказалась связанной с судьбой графа. И Окунев, и Чаплыгин отлично уяснили себе, что значит арест Сумарокова. Но к чести их надо сказать, что ни тот ни другой ни на миг не подумали покинуть Павла Иваныча и примкнуть к победителям. Кроме того, они верили в ум и находчивость графа.
Окунев встал и, наклонясь к Чаплыгину, быстро шепнул ему:
— Теперь я должен быть при нём. Чаплыгин кивнул головой.
Окунев отошёл, замешался в толпе офицеров и через несколько минут незаметно скрылся. Шум в остерии рос.
— Заприте двери! Никого больше не пускать в остерию, — крикнул кто‑то.
Марта уже и сама тревожилась. Безнадёжно махнув рукой, она заперла двойные двери.
В одном углу, окружённый офицерами, Новиков громко говорил, размахивая руками:
— Мы тоже хотим своей доли. Пусть верховники призовут нас, и мы скажем, чего хотим. Мы не отдадим им в руки всей власти! Мы хотим жить не по их указке! Для них всё — власть, слава! Над ними — никого! Кто может обуздать их своевластье? Никто! Не надо нам их, злобных олигархов! Пусть всё вершит общенародие!..
— Пусть тогда сама императрица позволит нам сказать, чего мы хотим! — протискиваясь к Новикову, кричал бледный молодой офицер.
— Молчи, Горсткин, — остановил его другой офицер.
— Да как они смели избрать императрицу! — кричал в другом углу залы высокий офицер. — Кто право им дал? Они «выкрикнули» императрицу, как бояре — Василия Шуйского. А что вышло из того? Нет, выбирать так общенародно, как выбирали Михаила Романова…
— Перехватать бы их, да и делу конец, — послышалось чьё‑то замечание…
— Подождём приезда государыни, там виднее будет, — послышался чей‑то примирительный голос.
Шум стоял невообразимый. Суровая Марта беспокойно поглядывала вокруг. Хотя двери были заперты, но, наверное, шум был слышен и на улице. Среди азартных споров то и дело слышался звон стаканов и бутылок, сопровождаемый криками:
— Вина!
Берта, как Геба, в сопровождении двух мальчишек-ганимедов [38] едва успевала удовлетворять желание гостей.
— Ну, брат, и каша же здесь, — почёсывая за ухом, сказал Макшеев своему соседу, угрюмому старому армейскому капитану, не сказавшему за всё время ни слова и молча тянувшему вино. — Прямо голова пухнет…
— Я бы дал им, — Хриплым басом ответил капитан. — Я бы пустил их к Наревскому мосту, где я рядом стоял с Михал Михалычем! Поговорили бы! Я бы их!.. Умны очень. А я скажу, — вдруг закричал он, — что коли фельдмаршал Михал Михалыч что делает — оно так и нужно!
Он с такой силой ударил стаканом по столу, что стакан разбился