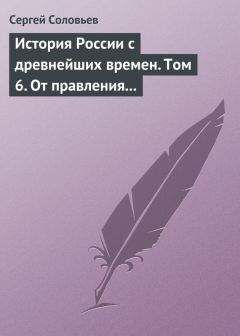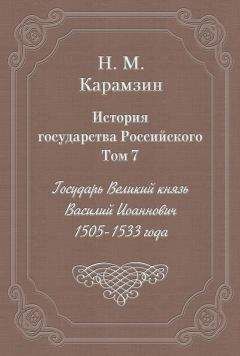А за высокой каменной стеной ханского дворца живёт своими заботами Бахчисарай.
Мутная пелена застилает глаза Менгли-Гирею. Коротка жизнь человека. Но не о том скорбь хана. Полной мерой изведал он богатство и почёт, вдосталь пролил вражеской крови. И там, где пронеслись его орды, горели города, горько рыдали невольницы, а в Крым гнали рабов, и скрипели груженные добром арбы. Богатела орда. Неисчислимы богатства хана Менгли-Гирея. Первые красавицы Руси и Польши, Литвы и Грузии украшают гарем хана.
О чём же мысли Менгли-Гирея, что волнует его? Хан который день тщетно пытается разгадать, чья злая рука всыпала яд визирю Керим-паше. Разве не знает тот коварный, что паша верный друг Гирею? А может, потому и дали яду?
От такой догадки хан даже приостановился. Лицо искривилось от гнева. Его сыновья, царевичи, ожидают смерти отца. А ханам малых орд, бекам и мурзам надоело бояться Гирея. Менгли пришло на ум услышанное однажды в юности от одного мудрого воина. «Волчья стая, - говорил тот, - подчиняется вождю до той поры, пока у него есть сила…»
И это так Менгли-Гирей проверил эти слова мудрые. Хан Ахмат был грозен для других ханов, но когда московский князь Иван не допустил Ахматову орду на Русь, ханы отказались подчиняться ему и убили Ахмата. Менгли-Гирей не забыл того. В те годы Гирей переживал сороковое лето и был крепок телом, птицей взмётывался в седло, сам водил крымцев в набеги. Но Менгли-Гирей не захотел помочь Ахмату, потому что ненавидел его и боялся усиливать власть Ахмата.
Хан Менгли-Гирей переступил дворцовый порог, плёлся, шаркая подошвами расшитых бисером туфель по мозаике пола. Верные телохранители распахивали перед ним двери.
В большой, отделанной розовым мрамором зале Менгли-Гирея ждали царевич и беки с мурзами. Хан, подобрав полы шёлкового стёганого халата, уселся на высокий, отделанный перламутром и слоновой костью чёрный диван без спинки, поджал ноги. Настороженным взглядом заскользил по лицам вельмож, снова пытался угадать, чья рука отравила Керим-пашу, но глаза у беков и мурз смотрят преданно. Хан подал знак, и к нему подбежал мурза Исмаил.
- Впусти послов, - тихо сказал Менгли-Гирей. Исмаил толкнул дверь, и пан Ходасевич важно вступил в залу.
Следом два дюжих гайдука втащили кованный медью сундук.
Замерли беки и мурзы, а пан Ходкевич согнулся в поклоне, остановился на полпути к хану.
- Великий и могучий хан, круль и великий кнезь Сигизмунд о здоровье твоём справляется и передаёт пятнадцать тысяч золотых.
Гайдуки открыли крышку сундука, и зажелтело золото. Вытянули беки и мурзы шеи, жадно блестели их глаза. Менгли-Гирей зевнул:
- Аллах да продлит годы короля Сигизмунда. Чего он хочет от меня?
- Великий хан, - снова заговорил пан Ходкевич, - кнезь московитов гордец и нам недруг. Он сбирается войной на Литву, и мой круль послал меня просить твоей помощи, великий хан.
Недвижимо лицо Менгли-Гирея. Зашептались беки и мурзы, ждут ханского ответа. А тот молчал недолго, ответил вкрадчиво:
- О аллах, разве не отдал я моему сыну Сигизмунду ярлык на Псков и Новгород, Тулу и Владимир да другие города во владение? Так чего ещё захотел от меня король Сигизмунд? - И в косых разрезах глаз блеснула злоба.
Ходкевич оробел.
- Мой круль Сигизмунд ждёт, что ты, великий хан, пошлёшь на Москву орду, и тогда полки литвинов придут к Москве.
Затихли беки и мурзы.
- Скажи королю Сигизмунду, я пошлю на Русь своих царевичей, а он пусть пришлёт мне ещё тридцать тысяч злотых, - наконец проговорил Менгли-Гирей и едва повёл сухонькой ручкой.
Мурза Исмаил уловил жест, подскочил к литовскому послу, вытолкал из зала.
* * *Пахнуло теплом, и дружно, в неделю, стаял снег, вскрылись реки, очистились. Едва приметно проглянула под ярким солнцем первая трава. Прилетели гуси, пошла на тёрку рыба.
Ожила степь…
С весной кончилась спокойная жизнь в казачьих приднепровских станицах, того и жди, орда повалит. Да и сами казаки не прочь в набег сходить, зипунов добыть. А случится, какой парень и жену приведёт из чужой стороны.
В один из дней позвал Анисима атаман Дашкович. Дорогой гадал Анисим: для чего он понадобился Евстафию? Коли в дозор черед наступил, так на то сотник у Анисима есть.
Переступил Анисим порог атаманского куреня, осмотрелся. Богато живёт Дашкович. Стены в дорогих коврах персидских и даже на земляном полу по всей горнице ковёр. Анисиму в обляпанных грязью сапогах ступить боязно. А на коврах по стенам оружие развешано, сабли и кинжалы, ножны в серебряной оправе, чеканка работы тонкой.
Евстафий уловил сомнение Анисима, сам подошёл к нему. На атамане рубаха шёлковая, алая, порты сукна шерстяного, не домотканые, как па Анисиме, и сапоги лёгкие, зелёного сафьяна.
Под висячими усами Дашковича в улыбке обнажились почерневшие зубы.
- Звал я тебя, Аниська, вот зачем, - сказал Евстафий, остановившись в полушаге. - Известно мне от наших сторожевых казаков, что за Перекопом собирается орда крымчаков. И не малая. Не иначе, к набегу готовятся. А потому как зимой ездил к хану в Бахчисарай литовский посол, думаю, пойдёт орда на Русь.
Дашкович погладил усы, хитро глянул на Анисима, снова сказал:
- Заезжал и к нам тот посол литовский, сулил много, на Москву звал. Да мы ему отказали. Двинется орда в силе на Русь, краем и наши курени прихватит, разорит. Порешили мы, атаманы, слать гонца в Москву, упредить. Пусть московиты станут полками на дороге у крымцев, и им, русским, добре, и нам, казакам, заслон.
Дашкович прошёлся по горнице, хрустнул пальцами рук.
- Подумал я, Аниська, ты недавно из Москвы и дорогу обратную не забыл. Да и пора послужить казачеству. Тебе в Москву ехать. Знаю, боязно стоять перед государем, ан надо. Разговор веди хитро. Скажи, передал-де атаман черкасских и каневских казаков, мы крымчаков сами не одюжим, а прорвутся на Русь, много зла причинят. Коли задержат тебя дозоры сторожевого воеводы, предупреди его, но не ворочайся, поспешай в Москву самолично, великому князю об орде обскажи. Иначе понадеемся на боярина-воеводу, а он, глядишь, словам нашим веры не даст. Согласен?
Похолодел Анисим от страха. Мыслимо ли, к государю, в Москву! Ну как прознает кто, что он, Анисим, холоп беглый…
А Дашкович в глаза ему заглядывает, переспрашивает сердито:
- Чего молчишь? Иль оглох?
Анисим рта не раскрыл, только головой кивнул. Довольно погладив усы, Дашкович сказал:
- О двуконь в Москву поскачешь, чтоб промедления не вышло.
* * *Подставив солнцу спину, Курбский грелся. Тепло приятное, не печёт, а ласкает. Май брал своё. Зазеленело вокруг, лопнули, распустились почки. Воздух особенный, чистый, ни пыли, как летом, ни осенней сырости.
И месяца не прошло, как князь Семён в Москве. Дозволил государь остаться во Пскове одному наместнику Петру Великому, а Курбскому в Москву воротиться.
Князь Семён приехал не один, а с женой. Взял-таки меньшую дочь боярина Романа.
Узнав о том, государь не приминул позлословить: «У князя Сёмки губа не дура, вишь, каку телушку взял».
Те слова донесли Курбскому, но он обиду проглотил. «Нынче великим князьям всё дозволено, не только словесами князя аль боярина оскорбить, но и живота лишить».
Жена князю Семёну досталась домовитая, вот и сейчас, едва из хором выбралась, сразу к клети направилась проверить, как девки зерно перевевают. На княгине сорочка красная, до пят, голова убрусом покрыта, идёт она грузно, широкими бёдрами качает. Курбский даже отворотился. Эк порадел боярин Роман, какую выкормил, соком налитая, придави, кожа лопнет.
Князь Семён мысли переменил. Подумал, что за два года, пока во Пскове жил, тиуны в его вотчинных сёлах наворовались предостаточно, а за крестьянами догляда не вели, потому в людях теперь нужда. Нет бы самим крестьян от других бояр переманывать, так и те, какие были, в Юрьев день разбежались.
В который раз помянул тиуна Ерёмку. Тот хоть и на руку слыл нечистым, но и княжеского не упускал, умел приумножить.
Из конюшни на водопой выводили коней, норовистых, застоявшихся. У колодца конюх рванул недоуздок, кулаком в лошадиную морду замахнулся.
- Данило, давно бит не был? - прикрикнул князь Семён. - К чему коня дёргаешь?
В распахнутые ворота колобком вкатилась, запыхавшись, ключница.
- Авдотья, - окликнул её Курбский, - аль за тобой свора псов гонится?
Ключница зачастила:
- Батюшка наш, князь милосердный! Хожу я на торгу, вижу - он. Очам своим не верю, он!
- Кто он? - недовольно поморщился Курбский.
- Он, батюшка, князь милосердный, Аниська, супостат, какой тиуна Ерёмку пожёг!