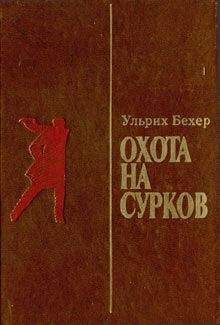— Потерпите, говорю я.
Я распалился; мы крупно поспорили. Но, узнав, что в Вене они стреляли по рабочим из пушек, Коломан Валлиш изменил первоначальное намерение. Он поднялся, освещенный лампой, как бык со своего ложа…
В ночной стычке группы леобенского шуцбунда с отрядом вооруженных сил федерации, поддержанным жандармерией и австрийскими штурмовиками (так называемыми «церковными клопами»), Шерхаку Францу прострелили легкое.
Шерхак — дорожный мастер на линии Грац — Брук, отец шестерых детей, не старый еще человек, но чахоточный.
— Мне нечего терять, кроме моего туберкулеза, — так он обычно объяснял свое бесстрашие, — чего уж мне беречься? Чихал я на эту фашистскую банду, чихал я на все.
И вот теперь он заполучил пулю в поврежденное легкое и блевал кровью.
Я вытащил Франца из свалки, доволок его, едва передвигавшего ноги, до своего мотоцикла, одноцилиндровой четырехтактной машины БМВ мощностью 13 л. с., которую укрыл за гигантским складом бурого угля. Я доставлю его к доктору Гропшейду! (Мне и самому надо было возвращаться в Грац.) Для этого я попытался посадить его на заднее сиденье, но Шерхак Франц не в силах был удержаться. Мне повезло, я раздобыл бельевую веревку, взвалил, кряхтя и обливаясь потом, Франца на спину, обвязал нас обоих раз, а потом еще и еще, связал концы веревки в узел у себя на груди. И помчался по обледенелому ухабистому проселку. Франц повис за моей спиной, мотаясь из стороны в сторону, время от времени его рвало теплой кровью мне в затылок.
Я ехал при ближнем свете фар. Переднее колесо то и дело заносило, и мне чудом удавалось выправлять мотоцикл.
— Иисусмария, — хрипел Шерхак Франц тонюсеньким голоском.
Навстречу мне густой волной шел встречный ветер, а потом забил мелкими градинами, и они безжалостно впивались мне в кожу. Кепи давно сдуло у меня с головы, и я слышал какой-то неопределенно-глухой, омерзительный звук. Словно порыв ветра, врываясь в мой дырявый лоб, свистит в него, как в ДУДку.
— Слышь? — бормотал Шерхак Франц жарко-клейкими губами в мое ухо. — Никак полицейские сирены. Эй, Требла, они нагоняют нас, канальи, твари эдакие, вот-вот схватят.
Меня ужаснуло, что и Франц тоже услышал этот звук. Но тут я понял и улыбнулся. Это же телеграфные провода, бежавшие вдоль проселка.
— Телеграфные провода это, Францль! — крикпул я. — Ветер, понимаешь?
Он молчал. А потом опять:
— Иисусмария, далеко еще?
— Да нет же! Держись, Францль, сейчас докатим!
— Иисусмарияисвятойиосиф, — стонал Шерхак Франц.
Ночное движение на проселочной дороге словно бы полностью замерло. Нам встретились лишь две-три крестьянские фуры с фонарями под дышлом, не торопясь катившие на рынок. Но вот засветились редкие огни Рукерльберга. Въехав в предместье, я издалека в конце одной из улиц заметил патрульных в длинных шинелях с карабинами. Мне хорошо был известен этот район, и я объехал патруль по прилегающим переулкам, погруженным в глубокую темень, по разбитой мостовой, на которой мотоцикл скакал как бешеный.
— Иисусиисус…
Вблизи Центрального вокзала мне послышалось: со стороны рельсопрокатного завода доносилась астматически-хриплая пулеметная очередь. Весь в крови, бельевой веревкой скрученный с тяжелораненым, я не осмелился проехать по Анненштрассе, а помчался к Ластенштрассе по боковым улицам. И все это время я, по натуре неисправимый пантеист, что давало себя знать в минуты опасности, молился, да, нетерпеливо молился мерзкому восточному ветру, теням крестьянских коняг, облетевшим деревьям, призракам, выстроившимся вдоль дороги: сделайте так, чтобы Максим Гропшейд был дома, не допустите, чтобы его арестовали, чтобы он был среди сражающихся, чтобы его ранило, чтобы он бежал, сделайте, чтобы он был дома, и тогда он заштопает Шерхака Франца.
Максим был дома.
Франц уже не шевелился. Казалось, он крепко заснул. Я осторожно сполз с еиденья и потащил его на спине в мезонин (квартиру, служившую «врачу бедняков» одновременно и врачебным кабинетом). Максим принял нас со свойственной ему невозмутимостью. Франц не первый, кого привезли ему этой ночью; в эти дни его кабинет, занавесками разделенный на «палаты», служил замаскированным лазаретом. Приглушенные хпаги за занавесками, шепот, тихие стоны и проклятья окончательно взвинтили меня, я ежеминутно ждал налета полиции.
Фанни, жена Максима, подчеркнуто элегантная венка, разыгрывавшая светскую простушку, была шокирована этим «биваком под Гренадой» и, возмущенная ночной деятельностью мужа, шипела, что это «безумие и что все мы еще поплатимся за него головой». В глубине души она испытывала отвращение к пациентам, которых Максиму присылали попечительские организации или рабочие больничные кассы, зато дворянский титул и офицерские традиции моей семьи импонировали ей, дочери простого бюргера. (Ее отец, член христианско-социальной партии, был владельцем кондитерской в венском районе Аль-зергрунд.) Мое посиневшее от холода лицо, моя окровавленная куртка куда больше напугали ее, чем обморок Франца, висевшего за моей спиной, точно эскимосский младенец. Не успел Максим освободить меня от раненого, как она силой влила мне в рот рюмку сливовицы, закутала в халат мужа, обмыла лицо сначала холодной, а затем теплой водой, осыпая упреками за наше «безумие» и вовсю при этом кокетничая со мной.
— Но ведь идет война, сударыня! — оборвал я ее.
— Какая еще война? — надула она губы. — Вздор все, безумие. Везде и повсюду мир…
— Идет война. Скоро сами поймете, Фанни, — выпалил я без околичностей и, резко повернувшись, поспешил к операционному столу, на который доктор Гропшейд уложил раздетого раненого.
Обмыв изможденное тело, Максим осмотрел и перевязал Франца, после чего невозмутимо выпрямился (его никак нельзя было назвать невозмутимым, но таково уж было свойство его натуры — прикрываться невозмутимостью, своего рода профессиональная мимикрия).
— Н-да, Шерхак Франц, — сказал он и, подняв на меня свои прекрасные грустно-агатовые глаза, задумчиво погладил иссиня-черную щетину, обрамлявшую узкое в стиле Эль Греко лицо (я подозреваю, он редко брился, чтобы приглушить свою красоту перед лицом безысходно-безобразной нужды, с которой сталкивался, принимая бедняков). — Аты знаешь, Требла, что у него туберкулез легких?
— Конечно, знаю.
— И пуля в легком, гм. Боюсь, немного можно сделать.
— Да ты попробуй, — нетерпеливо выкрикнул я. — Я же тащил его из такой дали!
Гропшейд на какую-то долю секунды задумался. Но тотчас, отбросив свою невозмутимость, приступил к операции, ассистировала ему ворчащая жена и два легкораненых шуцбундовца, почти дети, которых он словно волшебной палочкой выудил из-за занавески, а я опять вскочил на мотоцикл…
Максим Гропшейд вернул Шерхака Франца к жизни. А через два дня наступление шуцбундовцев против клерикальной диктатуры было сломлено. Руководство социал-демократической партии обнаружило свою полную несостоятельность. Оно не сумело ни призвать со всей определенностью к всеобщей забастовке, ни согласованно провести ее; в распоряжении диктатуры были армия, пушки, вымуштрованные по муссолиниевско-фашистскому образцу отряды хеймвера и не в последнюю очередь отсутствие единодушия в рядах социалистов. Я укрылся на горном пастбище неподалеку от Санкт-Ламбрехта, у бедняка крестьянина, брата кухарки, много лет служившей в доме моих родителей. Максима арестовали, но в тот же день выпустили. Тысячи людей засадили в тюрьмы. В «Сером доме», венской тюрьме, смазали тали виселиц; повсюду расклеили приказы об аресте Валлиша, Станека, Шерхака, меня и других руководителей шуцбунда. Обыск в квартире и кабинете доктора Гропшейда ничего не дал, Шерхак Франц хрипел в это время в угольном подвале дома на Ластенштрассе. (Дворник был из наших.) Максиму удалось извлечь пулю, предупредить осложнения. Секретаря профсоюза металлистов Станека схватили в Граце, повесили там по закону о чрезвычайном положении. Неподалеку от венгерской границы Валлиша опознал (и донес на него) железнодорожник, предатель из наших рядов; Валлиша перевезли в Вену, повесили по закону о чрезвычайном положении. (Железнодорожнику награда не принесла радости, на другой день его нашли заколотым.) Именно этим утром Шерхака Франца, будь он транспортабелен, можно было вывезти из угольной норы, где одержала победу его воля к жизни, в Югославию…
Я узнал обо всем, пробравшись с горного пастбища в Грац. За девять часов до отмены чрезвычайного положения Гропшейда вновь арестовали, Фанни в это время уехала с восьмилетним сыном в Вену, в доме произвели второй, более тщательный обыск, скорее всего, по доносу.
В ту же ночь я отпечатал в нашей подпольной типографии на Ауэнбругергассе отредактированную мною листовку, за распространение которой меня всенепремепно схватили бы. Заголовок гласил: СПАСЕН ДЛЯ ВИСЕЛИЦЫ!