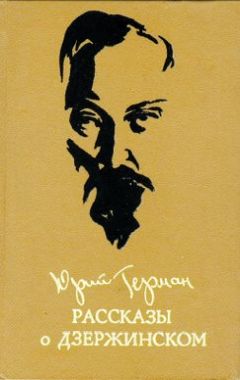Но Дзержинский спокойно и свободно, точно не было перед ним револьвера, сделал еще шаг вперед.
- Назад, - крикнул начальник конвоя, - застрелю!
Он отступил к стене вагона и выше поднял руку с револьвером, будто Дзержинский до сих пор не замечал этого револьвера.
Дзержинский шагнул еще.
За его спиной коротко охнул старик профессор. Это зрелище было не для людей со слабыми нервами: один безоружный человек медленно и спокойно надвигается на восьмерых вооруженных людей, идет на дула винтовок и револьверов. И лицо, это удивительное лицо с мерцающими светлыми зрачками. Но самое удивительное заключалось в том, что начальник конвоя вдруг струсил, испугался одного безоружного человека и закричал на весь вагон:
- Чего вы, наконец, хотите, черт бы вас драл? Что вам надо?
- Немедленно дайте нам все, что причитается, - воду, пищу, табак, сказал Дзержинский. - Немедленно.
- Воду тебе? Пищу тебе? А если я сейчас прикажу стрелять в вас всех, как в бунтовщиков?
Но это последнее он сказал уже только для проформы. Было видно, что он боится Дзержинского. И так же для проформы ответил Дзержинский:
- Стреляйте, мы ваших угроз не боимся. Стреляйте, если желаете быть палачами. Или стреляйте, или выполните наши требования.
- Я вам покажу ваши требования, - ответил начальник конвоя. - Я вам покажу такие требования, что вы больше не захотите...
Повернулся, сунул револьвер в кобуру и ушел.
А на следующем полустанке в вагон принесли кипяток, щи и махорку.
До вечера обсуждался инцидент с начальником конвоя. Говорили и при Дзержинском и без него. Он слушал, молчал и улыбался, потом вдруг сказал:
- Пустяки это все, вздор. Он испугался не моей силы воли, не чего-то там особенного в глазах у меня. Он испугался убежденности. Понимаете? Я убежден, а он нет. Он наемник, а я нет. Так просто: наемник испугался ненаемника. И потом у него рыльце в пушку с прицепкой этих вагонов с быками. Подними он стрельбу, началось бы все-таки расследование, докопались бы и до этих дел. Неловко, могут со службы выгнать, а службишка хоть и незавидная, но, как видите, довольно доходная, расставаться жаль. Все это в общем вздор и скука, надоело! Приятно только одно, что мы опять победили.
И, повернувшись к профессору, он спросил:
- Будем играть в домино?
Потом, играя, сосредоточенно морщил лоб и рассеянно слушал Тимофеева.
- Только знаете что, - говорил Тимофеев, - знаете, Феликс, что я хочу вам предложить? Вы слушаете или нет?
- Как же не слушаю, конечно, слушаю, - рассеянно ответил Дзержинский, - как же я могу вас, дорогой мой, не слушать?
- И тем не менее не слушаете, - продолжал Тимофеев печально. - Вы ведь не умеете делать двух дел одновременно. Вы или играете в козла, или работаете, или сражаетесь с тюремным начальством. На одну секунду оставьте домино...
- Оставьте домино, - пропел Дзержинский, - оставьте вы его...
Тимофеев махнул рукой и отошел в сторону.
Но когда Дзержинский кончил играть, он сел с ним рядом и, глядя в его прекрасные, умные и глубокие глаза, заговорил опять.
- Послушайте, Феликс, - сказал он, - умоляю вас, бросьте эти сражения с тюремным начальством. Ну, если не навсегда, то хоть на год, хоть на полгода...
Дзержинский улыбнулся.
- Ну вот, вы опять улыбаетесь! - воскликнул Тимофеев. - Ведь это же невозможно! Поймите, Феликс, вас убьют... Или вы опять скажете, что большевистский бог не выдаст?
- А вы думаете - выдаст? - спросил Дзержинский.
- А вы?
Дзержинский не ответил, смотрел в окно, за которым проносилась деревенька в тумане, в сумерках. Уже зажигались кое-где огни, слабые, чуть брезжущие.
- В такую пору, да еще в вагоне, да тем более в тюремном, надо петь, после долгого молчания произнес Дзержинский. - Только вот что.
И негромко запел:
Море яростно стонало,
Волны бешено рвались,
Волны знали, море знало...
Через несколько минут пел уже весь вагон...
И по голосам поющих было понятно, что настроение у людей спокойное, уверенное, почти такое, как бывает на воле.
Пятого января 1902 года Феликс Дзержинский был отправлен из Седлецкой тюрьмы через Варшаву, Москву и Сибирь за четыреста верст от Якутска в Вилюйск, в котором по высочайшему повелению ему надлежало пробыть ровно пять лет.
Путь от Седлецкой тюрьмы в царстве Польском до Александровской центральной каторжной тюрьмы в селе Александровском Иркутской губернии, поблизости от реки Ангары, партия арестантов, с которой шел Дзержинский, проделала в четыре с лишним месяца, что по тем временам считалось скоростью почти фантастической.
В мае партия прибыла в Александровск и разместилась в пересыльном корпусе, неподалеку от главного здания централа, построенного в котловине меж гор. Каторжная тюрьма выглядела куда печальнее, чем пересыльный корпус, небольшой, сложенный в лапу из крупных сосновых бревен, с двором, чисто выметенным и даже посыпанным песком.
Порядки пересыльного корпуса тоже во многом отличались от порядков каторжной тюрьмы. Этапникам жилось куда легче, чем отбывающим срок в централе: начальство ими не очень интересовалось, да и с какой стати интересоваться, если сегодня этапники тут, а завтра на каторжной Колесухе, или в Вилюйске, или в Качуге, или еще где-нибудь, в местах, куда Макар телят не гонял. В тюремных мастерских этапники не работали, к жизни централа никакого отношения не имели и проводили на пересылке свои дни, а то и недели, кто как хотел: отдыхали после страшного пути, чинили одежду, обувь и набирались сил для предстоящих каторжных лет.
Начальником централа был в то время поляк Лятоскевич, вел он среднюю линию и, как говорили про него арестанты, "жил сам и жить давал другим".
Но в конце апреля, незадолго до прибытия того этапа, с которым шел Дзержинский, положение в Александровской пересыльной круто и внезапно изменилось. Причины изменения порядков толком никто не знал: одни говорили, что на Лятоскевича кто-то из деятелей написал в Петербург министру письмо; другие считали, что поводом к новым крутым порядкам послужил широко задуманный побег, хоть и провалившийся, но все-таки побег; третьи считали, что виновник неприятных новшеств - старший надзиратель Токарев, шкура и палач по натуре, которого Лятоскевич боится и который имеет над начальником тюрьмы какую-то власть.
Как бы там ни было, но к тому времени, когда, измученный весеннею распутицей, дождями со снегом, морозами и буранами, всеми адовыми пытками российских каторжных дорог, этап входил в ворота пересыльной Александровской тюрьмы, надеясь хоть тут перевести дух, поспать, обсушиться и поесть, вдруг выяснилось, что старым порядкам конец, что здесь теперь орудует Токарев, палач и убийца по призванию, что бани не будет, кипятку до утра не получить, в село даже с конвойным за покупками выйти нельзя и, что самое главное, никаких разговоров и просьб: за разговоры Токарев бьет в лицо.
Узнав обо всех этих печальных новостях, матрос Шурпалькин, осужденный на бессрочную каторгу, человек очень смелый и спокойный, никому не сказавшись, сам, один, отправился из общей камеры, в которой размещались арестанты, к Токареву в дежурку. Услышав обращение не по уставу, Токарев молча сразу же ударил матроса тяжелой связкой ключей по лицу с такой силой, что рассек Шурпалькину щеку до кости. Брызнула кровь. Шурпалькин, теряя от боли власть над собой, шагнул к надзирателю, но тот ударил матроса ключами еще раз, и Шурпалькин упал.
В камеру он вернулся часа через два, никому не сказал ни слова и повалился на нары. При тусклом свете лампешки, коптившей у входа, Дзержинский успел заметить, что с матросом, к которому он очень привязался за месяцы этапного пути, неладно.
- Шура, - позвал он.
Матрос молчал.
- Шура, - вторично окликнул Дзержинский матроса.
Не дождавшись ответа, он подошел к Шурпалькину, сел возле него на край нар и спросил, что случилось.
Великан матрос, вместо ответа, заплакал.
В тюрьме люди плачут редко, и если уж плачут, то такими слезами, которых на воле не увидишь.
Тюремные слезы - особые слезы.
Невозможно было смотреть на этого белокурого гиганта, не сморгнувшего, когда ему прочитали смертный приговор с заменой пожизненной каторгой, весело посвистывающего в любых обстоятельствах жизни, всегда балагурящего, всегда подшучивающего, и вдруг тут, когда, кажется, самое тяжелое уже позади...
- Да Шура же, - позвал Дзержинский и стал отрывать от лица матроса ладони, которыми он закрывал свою разбитую кровоточащую щеку.
Но матрос не шевелился.
Наконец, попив воды, он немного успокоился и прерывающимся голосом стал рассказывать, как все произошло. Говорил он громко: камера постепенно просыпалась, люди собирались возле Дзержинского, а матрос, все еще плача и не стыдясь своих слез, уже во второй, а потом и в третий раз подробно, точно жалуясь, описывал все подробности избиения.