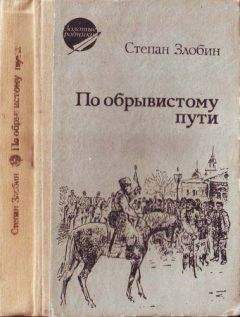Володя надел шляпу, накинул башкирский халат, который, бывало, для той же работы пользовал дядя Гриша, считая, что паровозной запах его обычной одежды раздражает пчел. Ребята вбежали с санками в дом, дядя Гриша поднялся из подвала, и вместе с Володей все вошли в «зало», где был накрыт стол и стояла зажженная елочка.
— Пора наливать! За стол! Все садись!
— А это кто? — не сразу узнали Шевцова.
— Угадайте-ка сами, — поддразнила хозяйка.
— По брюкам и по щиблетам признал — Володька! — пьяновато крикнул Иван Семенович Горобцов, тесть дяди Гриши, всю жизнь бывший «бляхой» — носильщиком, а теперь назначенный багажным весовщиком.
— Володя, Володя! — радостно закричали разрумяненные морозом ребята-чертенята, наспех скидывая вывернутые овчиной наверх шубейки.
— Угадали! — засмеялся Володя и поднял сетку с лица, чтобы расцеловаться с усатым беззубым дедушкой — Иваном Семеновичем.
— Володька, как тебе шляпа к лицу! — воскликнула старшая дочка Ютанина, чернявка в кудряшках, восемнадцатилетняя Люба, работающая упаковщицей на чаеразвесочной фабрике и сейчас наряженная русалкой — в венке из бумажных цветов, с распущенными волосами.
Любка была невольной подружкой их детских игр, иногда старшие ребята не знали, как от неё отвязаться, — девчонка! Но девчонка увязывалась за мальчишками, азартно обыгрывала их в чижика, обгоняла в горелки, ловила в салочки и наконец была признана в их кругу. Теперь она стала хорошенькой, остренькой девушкой, и не один кавалер слободки засматривался на Любку Ютанйну.
Под общий смех Володя вобрал сетку в шляпу, а шляпу лихо и франтовски столкнул набекрень, чтобы понравиться Любе.
Молодежь захлопала в ладоши…
Сын Горобцова Степаша, который был теперь помощникои машиниста на паровозе у дяди Гриши, сидел за столом в пожарной каске, жена его, миловидная, стройненькая Параша, с тихой доброй улыбкой помогала хозяйке. Их с ласковой усмешкой зовут в слободе — «Степаша с Парашей». Параша к Новому году оделась, «как барыня», в серый шуршащий атлас. Она швея в мастерской у «мадам Мари», и свекор вечно ворчит на Парашу за то, что она не хочет хозяйничать дома.
— И я весовщик, и сын уж вот-вот в машинисты выйдет, авось и прокормим, не нищие, слава богу! За домом смотрела бы лучше, да огород завела, да коровку. А скучно — соседям пошила бы на машинке… А то и сама, прости господи, скоро мадамой станешь, — ворчал он и в этот раз.
Степаша в ответ тихонько посмеивался. Не объяснять же отцу, что через Парашу налажена связь с людьми, принадлежащими к другому кругу! Параша входила в дома, в которые неудобно было прийти никому из рабочих, переносила литературу и документы, сообщала явки.
Здесь были соседи по дому Ютаниных, брат с сестрой, — увалень Никита и пышненькая Наташа Головатовы — дети умершего кондуктора, которые, вопреки обычаю, вырвались с «чугунки», как называли в народе железную дорогу. Никита поступил наборщиком, а за ним и Наташа устроилась ученицей в местную газетку «Наш край». Они жили в том доме, в котором когда-то родился и рос Володя и который отец их купил после смерти Володиного отца, да и сам недолго в нем прожил.
Мечтой Никиты было завести подпольную типографию, для чего почти каждый день он носил по щепотке литер. Шрифта накопилось пока с полпуда. Можно было попробовать набирать, хотя и трудно с таким количеством. Но шрифты не всё: не было ни рамы, ни валика, ни краски, ни помещения, ни — главное — разрешения от Комитета заняться самостоятельно этим делом, потому шрифты пока оставались зарытыми в землю. Лохматый Никита для смеха нарядился в пестрый платочек сестры и надел её яркие бусы, а Наташа подвела себе углем усы и оделась городовым.
Здесь за столом был младший брат дяди Гриши, рослый, светловолосый Илья и его закадычный товарищ Кирюша — оба слесаря железнодорожных мастерских и Володины сверстники. По совету Баграмова и с согласия дяди Гриши Володя готовил их в пропагандисты, щедро делясь с ними своими не бог знает какими богатыми политическими знаниями. И оба со всей ответственностью учились, особенно лиричный певун-гармонист сероглазый Илья. Зубоскал и девичий сердцеед, сухощавый задорный спорщик Кирюша тоже относился к делу серьезно и в свободное от работы время читал, хоть и мало было этого свободного времени…
Володя уселся между Ильей и гимназисткой старшего класса, высокой и статной черноглазою Лушенькой, крестницей тети Нюры. Мать Луши, судомойка вокзального буфета, вдова машиниста, который погиб во время крушения, выбивалась из сил, чтобы Луша могла окончить гимназию. «Собой-то она у меня взяла. Статью вышла в родителя, косами — в меня. На руках-то не засидится, к тому же с приданым, — говорила Лушина мать Нюре Ютаниной… — Уж терплю, уж тяну, а вытяну — тогда отдохну да порадуюсь».
Вот только двое их, Володя да Луша, и учились в гимназиях.
За три минуты до боя часов все торопливо разместились, протянули руки к налитым рюмкам и стопкам и замерли, провожая молчанием последнюю, торжественную минуту. Старые стенные часы заскрипели, зашипели, раздался первый удар…
— С новым счастьем, с новым здоровьем! — шамкая, выкрикнул весовщик, желавший во всем быть первым. — С Новым годом, ребята!
— За Новый век! За новую жизнь! — подхватил дядя Гриша.
Часы еще звонили, и все потянулись друг к другу чокаться. Старик Горобцов закрестился, а Илья вдруг рванул гармонику, и Кирюша громко запел:
Отречемся от старого ми-ира,
Отряхнем его прах с наших ног!..
— Будет! Будет!! — строго прикрикнул на них старик.
— Оставьте, Илюша, Кирюша, не надо! — жалобно попросила хозяйка.
— Бросьте, Илюша, еще услышат, — робко вмешалась Луша.
Илья перебрал лады и заиграл любимый свой вальс — «Березку».
Все вскочили, поцеловались, поздравились. Хозяйка захлопотала, подставляя закуски, с особым старанием угощая разобиженного старика отца, который не выносил никакого слова против царя и правительства.
— Ты молодой, у тебя на носу молоко не обсохло! — шамкал он, отчитывая гармониста. — А я на горбу, может, мильён пудов чужого добра перенес, я цену рабочего пота знаю! Не господам-тилигентам учить рабочего человека уму. Они с жиру бесятся, думают, думают, лежа-то на боку, да придумывают сицилизм-мицилизм… Кофей пьют с коньяком Шустова, оттого им и барские глупые мысли лезут: «Дай рабочих сверну к забастовкам — что будет?!» А ему ничего не будет, по-прежнему кофей останется, а тебя упекут куда и Макар телят не загонит!
— Да кто вам сказал, что забастовки придумали господа?! Кто сказал?! — дразнил старика Кирюша.
— Кирюшка, молчи! — одернул хозяин. — Ивана Семеныча не успоришь! Оставь его и сиди при своих! Илья, брат, сыграй-ка нам что-нибудь веселее, что ты «Березку» всё гнёшь!
— Папаша, да ну их совсем! Кусочек гуська! Давайте тарелочку! — упрашивала отца хозяйка. — Кирюшка, давай и ты тоже тарелку!
— По второй, по второй! — примиряюще возгласил дядя Гриша, разливая вино.
В шумном, веселом и возбужденном говоре прошла еще рюмка, другая, но вот Володя переглянулся с Ютаниным, дядя Гриша «подкашлянул» Кирюшке и демонстративно вытащил из кармана кисет, бумагу и спички.
Старик Иван Семенович что-то ворчливо рассказывал терпеливой и почтительной своей дочери, тете Нюре, в то же время беззубыми деснами переминая во рту кусок мясного, еще не остывшего пирога.
Зная, что старик не любит табачного дыма, они вышли из комнаты на кухню покурить, оставив в «зале» хозяйку с ее отцом, Парашу, Лушу и некурящего гармониста Илью.
Младшее поколение Ютаниных — Колька и Санька были высланы на улицу кататься на санках, с поручением караулить, не подслушал бы кто-нибудь и не подглядел бы под окнами…
5
За последние годы Луша почти не бывала в доме Ютаниных. Так как-то вышло само собою. Теперь же, в последний год перед окончанием гимназии, у Луши появился неожиданный «ухажер» — полицейский пристав Василий Иванович Буланов.
Лушина мать ничего не имела против того, чтобы пристав бывал в доме, как ничего не имела и против его сватовства. Но Луша всячески избегала ухаживаний полицейского. Потому она, «отбившаяся» от дома Ютаниных, стала снова тут чаще бывать. И хорошо ей здесь было среди своих, близких. Луша любила по-сестрински Любку Ютанину. Не потому отстала от их дома и от семьи Ютаниных, что разлюбила. Гимназию кончить, да еще одною из первых учениц, — это тоже нелегкое дело. Приходилось много учиться. А в последнее время еще забота: мать попрекнула ее дармоедством… Куском попрекнула за то, что она отказывается выйти за пристава. «А здесь никого никто не неволит, все дружны, все вольны!» — с грустью подумала Луша…