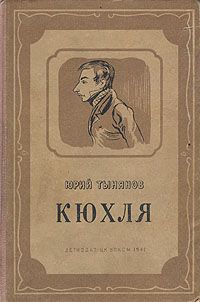Ему нравилась женская речь, неправильная, с забавными вздохами, лепетом и бормотаньем. Ужимки их были чем-то очень милы. Гостьи быстро пересыпали русскую речь, как мелким круглым горошком, французскими фразами и картавили наперебой. Вообще, когда гостьи говорили друг с другом, они лукавили, как бы переодевались в нарядные, нерусские, маскарадные костюмы, и только косые взгляды, которые они украдкою бросали друг на друга, были совершенно другие, русские. Вздохи же были притворные, французские, и очень милы. Но настоящую радость доставлял ему мужской разговор, французские фразы при встречах и расставаниях. Ими обменивались, как подарками, а с малознакомыми так, как будто сражались старым, тонким оружием.
По-французски теперь говорили о войне, которая шла с французами же, и по-французски же их ругали: les freluquets;[26] о государе, который издавал рескрипты, писанные хорошим слогом, и, по-видимому, бил или собирался бить этих freluquets; даже о митрополите, который служил молебны. Но стоило кому-нибудь в разговоре изумиться – и он сразу переходил на русскую речь, речь нянек и старух; и болтающие рты разевались шире и простонароднее, а не щелочкой, как тогда, когда говорили по-французски. Сонцев, поговорив изящно по-французски, вдруг сказал:
– А французы-то нас бьют да бьют!
Александр всегда замечал эти внезапные переходы, после которых все говорили гораздо тише, не торопясь, все больше о дворнях, о почте, о деревнях и убытках.
Когда никого не было дома, он пробирался в отцовский кабинет. На стене висели портреты: Карамзин, с длинными волосами по вискам, похожий, только гораздо моложе и лучше; косоглазый и розовый Иван Иванович Дмитриев, с хрящеватым носом, которого он почему-то не любил, и в воздушных лиловатых одеждах черноглазая девушка с широкими боками. На полках стояли французские книги. На нижней были большие томы, покрытые пылью, от которой он чихал; страницы были рыхлые, буквы просторные, рисунки изображали знамена и героев. Он ощупал их пальцем – они были выпуклые. Рядом стоял том, который ему нравился: там тоже были рисунки – большие, спокойные женщины в длинных одеждах, с открытыми ногами, с глазами без зрачков – это были все те же самые садовые нимфы и богини, и у всех были свои имена, как у живых.
– Ты, друг мой, отвернись к стене да по сторонам глазами не води, не то век не заснешь. У тебя бессонницы быть не должно, ты еще мал. Поживешь с мое, тогда, пожалуй, не спи. Я ничего тебе не стану рассказывать, все пересказала. А в окошко не гляди – и того хуже не заснешь. В городе хуже, не спится, в деревне лучше, летом в окно клен лапой влезет, и заснешь; зимою тоже деревья. А здесь фонарь и фонарь. Стоит и моргает. Спи. Спят все кругом, и Левушка, и Николинька, тебе одному сна нет.
…Едем, едем – и вдруг рыдван наземь. Соскочила скоба. Дед говорит мне: пойдем пешком. Я отвечаю: не привыкла. Я вовсе не с тем ехала, чтоб пешком впервые в дом являться. Кой-как заткнули скобу. Дед очень оробел перед самыми воротами и огорчился:
«Если он на вас шишкнет, прошу вас, душа моя, пасть перед ним на колени, как и я. Тогда простит».
Он очень боялся отца – женился на мне не спросясь. Я сказала: я не таких правил, чтоб на меня, друг мой, шишкали. Я не могу пасть на колени. А он говорит, что в Африке и все так делают и не считается за бесчестье. То в Африке, а то здесь, под Псковом. Дед даже заплакал от огорчения, слезы так и льются. Тогда еще мужчины не плакали, как теперь. Мне стало страшно, и мы сошли с рыдвана. У Иришки переоделись, он в мундир, я надела материны жемчуга – все потом прожила. Послали к старику спросить, примет ли. Ждем Матрешку час, другой – нет ее. К вечеру мы и вовсе оробели. Сидим в избе, в чулане, совестно показаться. Дали нам хлеба с водой, как на обвахте. Матрешка приходит в слезах: ее отодрали. Вот эту ночь, друг мой, и я не спала – как ты. Назавтра я объявляю, что еду назад, к родителям, и что до крайности изумлена. Дед умоляет и вдруг ведет меня к дому. Не помню, как вошли. На пороге дед – в мундире, при шпаге – пал на колени. Но я все стою; только глаза опустила. Подняла глаза и вижу – старик сидит в креслах, в расстегнутом мундире, в руках трость. Лицо черное – и не черное, а желтое; ноздри раздул. Смотрит на деда и молчит. Потом на меня. И все молчит. И вдруг поднял трость. Мне стало страшно, я вскричала и повалилась. Очнулась – вся в воде. Старик надо мною и прямо в лицо прыскает водой. Я посмотрела и опять вскричала, а он засмеялся, но только с принуждением.
«Неужто, сударыня, я так страшен тебе показался? Я николи еще женщин так не пугивал».
Он был любезен. Но только на деда еще долго не глядел. И в глазах все была искорка.
…А что потом было… Ничего потом не было… Потом нечего рассказывать. Дед? Умер твой дед, нет его. Спи. Да глазами-то по сторонам не води. Ну, уж я не слажу с тобой. Пусть Ирина сказку скажет или песню эту твою споет. Мочи нет как надоел…
Арина входила в комнату бесшумно и садилась у его постели в ногах. Не глядя на него, медленно покрёхтывая, позевывая и покачивая головой, рассказывала она о бесах. Бесов было великое множество. В лесу были лешие, в озере, что за господским домом в Михайловском, у деда Осипа Абрамовича, у мельницы, внизу – водяной, девки его видели. В Тригорье жил леший, тот был простец, его все видели. Он мастер был аукаться. Была одна девушка, рябая, у дедушки, у Осипа Абрамовича, ходила в лес по бруснику. Как звали – все равно, нечего ее поминать; он с ней аукался и защекотал. Вся душа смехом изошла. Вот вы, батюшка Александр Сергеевич, не заснете, и вас защекочет. Ну не леший, так домовой. Он оттуда и прилетел. Вот в трубе тоненько он поет: спите, мол, батюшка Александр Сергеевич, спите, мол, скорее, не то всех по ночам извели – и бабушку, и няньку, и меня, домового вашего Михайловской округи.
Их водили гулять всех вместе, табором, как говорила Марья Алексеевна, – Олиньку, Александра, Левушку и Николиньку. Александр обычно отставал. Мальчишки дразнили его: «Арапчонок!» и убегали в переулок. Он каждый раз вдруг закипал таким гневом, что Арина пугалась. Зубы оскаливались, глаза блуждали. К удивлению Арины, гнев проходил быстро, как начинался, без всякого следа. Дома он никому ничего не рассказывал.
В этот день он нарочно отстал и присел на скамеечку у забора. Он думал, что Арина не заметит и все уйдут далеко. В открытом окне, напротив, сидел толстый человек в халате и наблюдал улицу. Улица в этот час была незанимательна. Рядом с толстяком стояла молодая женщина и задавала корм пичуге в клетке. Толстяк, завидя Александра, обрадовался. Он живо вгляделся в него и дернул за рукав молодую женщину. Та тоже стала глазеть в окно. Александр знал, что о нем говорят «арапчонок». Он пробормотал, как тетка Анна Львовна:
– Что зубы скалишь?
И пошел догонять своих.
Александр никогда ни с кем не говорил о деде-арапе и ни у кого не спрашивал, почему его дразнят мальчишки арапчонком. Когда однажды он спросил у отца, давно ли умер дед, Сергей Львович сначала его не понял и думал, что Александр спрашивает о его отце, Льве Александровиче. Он со вздохом отвечал, что давно и что это был человек редкой души:
– Любимец общества!
Узнав, что Александр спрашивает о деде Аннибале, Сергей Львович сначала остолбенел и сказал, что этот дед и не думал умирать, потом нахмурился и, собравшись с духом – дело было в присутствии Марьи Алексеевны, – объявил, что Александр не должен об этом деде думать, потому что он Пушкин и никто более.
– И бабушка твоя – Пушкина, и мать.
Марья Алексеевна молчала.
Сергей Львович рылся после этого более часа в каких-то бумагах в своем кабинете и вдруг выскочил оттуда, бледный как полотно:
– Пропала!
Оказалось, пропала родословная, целый свиток грамот, который передал ему на хранение, уезжая, Василий Львович. Ломая руки, Сергей Львович говорил, что он конверт запечатал родовою печатью, ящик стола запер на ключ, а там вместо родословных свитков лежат теперь стихи, альбом и старый пейзаж Суйды. Дрожащими пальцами Сергей Львович рылся во всех ящиках своего стола, и домашние помогали ему, бледные и растерянные. У двух секретных ящиков Сергей Львович замешкался и не открыл их.
– Там бумаги секретные, – сказал он скороговоркой и нахмурившись, – …масонские.
Марья Алексеевна замахала руками и зажмурилась. Она боялась масонов.
Наконец грамоты нашлись, свитки были в полной сохранности, Сергей Львович просто запамятовал, что запер их не в стол, а в особый шкапчик, где лежали редкие книжки. Он блаженствовал.
Медленно развязав большой сверток, связанный веревочкой, он сломал красную большую печать и показал старые грамоты Александру.
– Изволь посмотреть сюда – видишь печать? Это большая печать. Письмо старое, но мне говорили, что здесь за войну с крымцами жалуется вотчина, двести четвертей или около того. А это – судебный лист; это, впрочем, не важно.