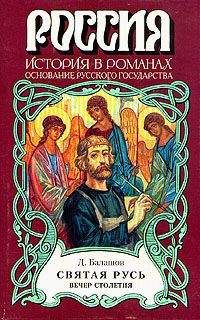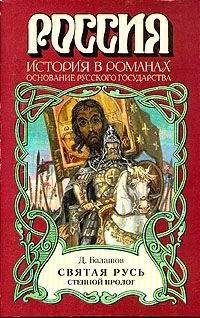«Ох, наплачется с им Любава! » — не раз повторял про себя Иван. Зять, верно, что-то понял, внимательно поглядев Ивану в глаза, высказал:
— Нельзя! Мы с Любашей ищо молоды, дети пойдут! А кажному надо будет оставить, в жисть проводить… Я вон дочерь от первой жены взамуж отдавал, дан чего только не пошло за нею! И яхонты, и парча…
— Тряхнув головой, прищурил глаз с кривой усмешкой, словно и доселе жался о приданом, примолвил веско: — Дак по добру и ценят!
И опять не понравилось Ивану, что о Любаве, хоть и накануне свадьбы, уже говорил как о своей — «мы». Бывало, и на пиру свадебном, перед самой церковью расстроит брак! Всяко бывало, но чуял Иван, что тут уже никаких чудес не произойдет, слишком ведал будущий зять, чего хотел! Такие свое хоть из горла вырвут!
Потом — суматошные четыре дня причитаний, песен, суеты, бешеной гонки ковровых саней, визг бубенцов, комья снега из-под копыт, хохот дружек-ратников (с зятевой стороны гостей было на удивление мало), «Налетели, налетели ясны сокола» и «Разлилось-разлелеялось» за столом, и рожь, которой осыпали молодых, и хмельной мед, и последние, с трудом оборванные рыданья Любавы перед самою церковью…
И после всего — словно бы разоренный, словно бы после вражеского нашествия или с трудом утушенного пожара родной терем. Маша, что перемогалась, пока шумные гости наполняли горницу, теперь лежит, верно, сдерживает стоны. Маленький Иван на тонких ножках стоит рядом с матерью, держит ее за руку, спрашивает:
— Маманя, тебе больно, да? Животик болит?
Наталья Никитична, твердо сжимая сухие губы, не подымая глаз, чинит детскую лопотинку. Иван, опустошенный, усталый, сидит, тяжело навалясь на столешню.
— Вот и похоронили Семена во второй раз! — говорит.
Матерь недовольно вскидывает глаза, возражает сурово:
— Не девочка! Знала, на что шла! — Еще что-то хочет сказать, но смолкает, покачивая головой, вновь принимается за работу. Девка из Острового, поглядывая на хозяев, молча и споро прибирает горницу.
— На прочестье поедешь? — прошает государыня-мать.
— Недосуг! — отвечает Иван. — Да и не хочу, чужой я тамо! А во чужом пиру похмелье не надобно!
Зять, однако, назавтра явился сам, чуть не силой увез Ивана с собою. За столом, когда пили, пристально глядя в очи шурину, неслышный в общем шуме, высказал негромко, жарко дыша Ивану в лицо:
— Ты на меня сердца не держи, сестру не обижу, не боись! Ищо и благодарить будете за такого-то зятя!
Ивану и хотелось бы поверить новому родичу, которого звали трудным греческим именем — Филимон, он стесненно положил ему руку на плечо, почуял нешуточную силу мышцы.
— Филей зови, попросту! — подсказал тот, украдкою заботно взглядывая на Любаву. И только по этой заботности взгляда и понял Иван, что сестра зятю все-таки дорога… Они выпили, почти обнявшись.
— Будешь когда в Коломне — заезжай! — напутствовал зять. — Слыхал я, деревня ваша, Островое, недалече оттоль!
«И это вызнал! — почти восхитился Иван. — Ну, основательный мужик! » Потянуло за язык спросить и о княжеской зазнобе, о чем ему повестил Никанор. Зять, оказывается, уже слыхал и об этом.
— Так-то сказать, — прищурил он внимательный глаз, — и воевода добрый Андреич, и по всему… Да вота хошь и мне! Под Владим Андреичевых бояр идтить… Нестаточно! Ототрут! У их таковых, как я, и без меня хватает! Как ни служи, а уж землю получить — навряд! Ето когда было, да сплыло, в старину, ну там дани, кормы… И таскались за князем своим из града в град… А тут — земля! У нас с Любашей хоть и четыре двора всего, а свои! Теперича, значит, и деревню прикупим… Надобно волостку-то создавать! Дед у меня был статочный муж. Дружину имел, дворы… Семижопым пото и звали… А все мор унес!
— При Семене Иваныче? — уточнил Иван.
— Ага! — Зять на минуту задумался, потом тряхнул головой и с внезапно прозвеневшей в голосе удалью довершил: — Наживем! Чаю, из Коломны не голым возвернусь! Дак и тово… Единая власть надобна, чтобы, значит, ничего не менять… — Он хлопнул Ивана по плечу, полез за кувшином — налить вновь опруженные чары.
Домой Иван явился поздно, в сильном хмелю. Торопливо огладил Машу, почуяв, что лоб у нее весь в холодном поту. Спросил грубовато-весело:
— Не родишь нонче?
Она поймала его пальцы, молча поднесла к губам. Спали теперь поврозь, и Иван, скоро захрапев, уже не услышал сдержанных стонов жены.
А в улицах не кончалась праздничная гульба. Бешено летели ковровые и расписные сани, кони в бубенцах и лентах били копытами, понуждаемые лихими окликами возничих, хохотом и испуганно-радостным визгом молодаек, вцепившихся в разводья вихляющих по разъезженной дороге саней.
Великому князю Дмитрию с холодами, как всегда, стало лучше. Он даже выбрался единожды за город, но мягкие толчки саней на западниках пути так отдавались гулкими ударами в сердце, что князь, не доехав до Воробьева, сердито глядя на растерянную верхоконную сторожу, велел заворачивать и возвращаться в Москву.
Думать о конце не хотелось, не те были годы! Но думать было надобно. Он велел пересчитать добро. Дьяк перебелил по его приказу составленное начерно завещание. Были подтверждены союзные договоры с прочими князьями Владимирской земли. От Владимира Андреича потребовал скорейшего подтверждения грамоты, устанавливающей твердую иерархию отношений согласно новому, Алексием утвержденному закону о престолонаследовании. Двоюродный брат должен был подтвердить, что он станет младшим братом наследнику стола, Василию. Владимир Андреич, которому принадлежали не только московская треть, но и Серпухов, Боровск, Верея, Волок и сотни прочих градков, починков, сел и деревень
— со всем вместе он был едва ли не богаче великого князя, — которому принадлежало, так же как Дмитрию, право чеканки своей монеты и который рассматривался в той же Орде как равный Дмитрию государь, медлил подтвердить ряд с племянником. Медлил и, не подписавши грамоты, уехал с женою к себе на Волок. Потом остановил в Дмитрове, явно не желая встречаться с двоюродным братом, и тут его литовской жене приспело рожать. Литвинкой она была, впрочем, лишь по отцу Ольгерду, а по матери Ульянии — тверитянкой. Спешно вызвали повитух, нянек и игумена Афанасия. Восемнадцатого января у Владимира Андреича родился сын Ярослав.
Елена Ольгердовна рожала легко, да и сын был уже четвертым по счету. Отдохнув несколько часов, она уже распоряжалась служанками. Крепкими руками со слегка потемневшей и чуть-чуть сморщившейся кожей (по рукам только и догадать, что перевалило за тридцать уже!) приняла туго запеленутый сверток. Чмокнув в сморщенное личико новорожденного с еще не сошедшею краснотой, выпростала, распустив шнуровку, грудь, сунула в ждущий ротик тугой содок — кормить всегда начинала сама, после уж отдавали кормилицам.
Владимир Андреич стоял перед нею осторожным и слегка глуповатым медведем.
— Сядь — тово! — попросила-приказала она. — Не ответил ищо Митрию?
Он качнул головой, прихмуря брови. Она любовно и жалеючи оглядела супруга:
— Прост ты у меня! Батюшка, кабы по-твоему мыслил, дак и доселе Явнутий на троне сидел, а проще сказать — давно бы уж всю Литву немцы охапили! Василий, гляди, женится на Витовтовне и Русь тестю подарит! Да и случись какая беда ратная? Ты воевода, воин! За тобою полки, за тобою дружина пойдет! Вона, ты Тохтамышев полк разбил, когда Дмитрий Москву татарам отдал со страху да со страстей! Как еще Евдокия егова в полон не угодила!
Елена оглядывала супруга тем ждущим повелительным взглядом, которым женщины побуждают своих мужиков к бою: «Муж ты али нет? » Презрительно и гневно выговорила:
— Младший брат!
— Мы с Митей… — начал было Владимир Андреич.
— Вы с Митей! — перебила Елена, возвышая голос. — А умрет? И передерутся вси! Юрко вон не хочет писаться младшим братом, и отец ему не указ! А ты? Умрет Митрий! А ентих всех куда? В железа, в нятье? Не он, не Митя твой! — Отмахнула головой, так что звякнули жалобно серебряные дутые звездчатые колты с маленькими жемчужинами на концах.
— А наследники?! Кто опосле будет? Сыновья, внуки! Как Вельяминова Ивана, порешат, лишь бы волости наши под себя забрать! (И как в воду глядела: на внуках — не на детях! — все так и произошло…)
Елена Ольгердовна по воспитанию была русская, литовской речи и той не знала почти, но навычаи Гедиминова дома знала твердо, и ей, дочери своего отца, что властно, по праву ума и силы, а отнюдь не по праву рождения возглавил литовский правящий дом, ей было чуждо и оскорбительно решение покойного Алексия о прямом престолонаследии, утверждавшемся (но еще не утвержденном!) тут, на Москве. Древний инстинкт матери, защищающей свое гнездо и своих детенышей, бушевал в ней и придавал неистовую силу словам.
Владимир Андреич смотрел немо на твердые руки жены, на ее набухшую грудь с темным расширившимся соском и с горем понимал, что Елена права по-своему и что ничего, кроме «мы с Митей», он ей ответить не может. Ольгерд тоже мог бы сказать, что вот, мол, они с Кейстутом — водой не разольешь… А теперь оба в могиле, причем Кейстут убит своим же племянником, а дети их, Витовт с Ягайлой, режутся друг с другом за власть, и только чудом еще Ягайло не погубил Витовта!