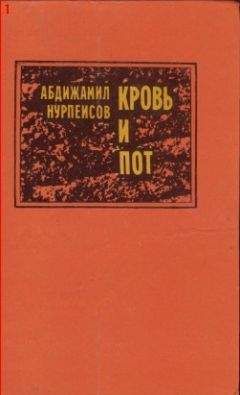И пошел, и пошел Судр Ахмет поминать всю скотину и всех родственников этого аула до седьмого колена… Не только человек — сам всевышний не смог бы его теперь остановить. Мало того, что никто в доме слова не мог вымолвить, никто не знал, что и возражать расходившемуся гостю, и всем начинало уже казаться, что верблюдица их и в самом деле никакая не стельная. «Собираешь, собираешь, — убивался Судр Ахмет, — всю жизнь скот по крупиночке, по щепотке, а этот недоумок расшвыривает его горстями. Ойбай, ойбай-ау, ну как тут промолчать!»
Всем в доме стало страшно неловко. Даже Еламан, знавший Судр Ахмета как облупленного, только глазами хлопал. Сделав грустное лицо, он повернулся к растерявшимся гостям, с которыми так удачно было сторговался, и смущенно сказал: «Уважаемый в нашем роду человек! Можно сказать, мой старший брат. Я вот без его совета затеял дело, и, сами видите, неладно получилось. Уж не обессудьте».
Приунывшие гости вышли на улицу, посоветовались за домом и решили вернуть взятую в придачу ярку. Овцу, доставшуюся ему теперь как бы даром, Еламан распорядился зарезать, а мясо спустить в котел. Гостей он уговорил остаться, пригласил еще соседей знакомых, и в доме стало совсем хорошо. Судр Ахмет повеселел, то и дело поглядывал через открытый полог на улицу, туда, где булькало и пенилось в котле над очагом, и все принюхивался своим плоским носом, жадно втягивая в себя запах нежной баранины. В душе его пела веселая струна, все земные заботы вылетели из головы. Ничего важнее кипящего в котле мясного навара не было теперь для него на свете. В битком набитом людьми доме он громче всех хихикал и громче всех говорил. С гостями, с которыми он только что переругался, как с кровными врагами, стал он теперь дьявольски учтив, ни с того ни с сего затеял вдруг игривый разговор о сватовстве, о будущем родстве, о том, как — пах, пах, пах! — породнятся их аулы, как начнут гостить друг у друга, как станут ездить друг к другу в гости на лучших рысаках. Дойдя до рысаков и иноходцев, он уже за дастарханом, когда принесли на подносах исходившее горячим паром мясо, стал называть одного из гостей сватом….
Еламан, уставший уже сдерживать смех, едва уехали гости, бросился ничком на кошму и принялся так хохотать, что проснулся. Оторвавшись от подушки, он протер заспанные глаза и огляделся. Конь, стреноженный с вечера, пасся невдалеке возле пестрого теленка на приколе. Хозяин дома уже выгнал скотину на выпас и возвращался назад, ведя в поводу ревущего, скучающего по матери сосунка-верблюжонка. Солнце поднялось уже довольно высоко. А Еламан, вспоминая сон, долго сидел в тот раз на постели, покачивал головой и усмехался.
— Эх, а и забавный же человек был покойник, не в обиду ему будь сказано! — сказал Еламан, чувствуя, как какая-то умиленная жалость овладевает им.
Кален поглядел на него сбоку раз и другой, подумал и отозвался:
— Что ж, человек он смертный, как и все. Должно быть, и впрямь помер. А все кажется, что где-то он мотается по аулам и скоро вернется. Прямо к сердцу его прижать хочется.
Выпрямив и помяв затекшие ноги, он поднялся. Когда они вышли из дома, на улице уже темнело. С моря дул сильный ветер, во дворе взвихривались маленькие смерчи. Улицы были безлюдны. Город безмолвствовал. Две страшные силы, сойдясь лицом к лицу, затаились в напряженном ожидании, и в безмолвии наступающей ночи отчетливо, как некий щемящий звук, присутствовали страх и подозрительность.
Когда город совершенно затих, погрузившись в тревожный, чуткий сон, Еламан, оставив Калена дома, пошел на окраину, к своему отряду. Едва найдя своих в темноте, он узнал, что Дьяков уже побывал у них и предупредил, чтобы выставили усиленное охранение. Еламан решил остаться в окопах. Джигиты его, вот уже несколько дней подряд жарившиеся под палящим солнцем, пользовались последними часами затишья и дремали, кто сидя, кто навалившись грудью на бруствер. Еламан осторожно прошелся по траншее, стараясь не нарушать короткий, чуткий сон джигитов. Он был уверен, что если не на рассвете, то к вечеру белые наверняка пойдут в наступление, завяжется невиданный в этих степях бой, и как знать, кому суждено тогда уцелеть и кому лечь костьми на этой земле. Думать об этом было так горько, что Еламан поскорей отогнал невеселые мысли, как отгоняют от себя назойливую мошкару.
Обойдя траншею, он остановился, присел на корточки возле какого-то джигита и тут же задремал, но скоро проснулся, будто его толкнул кто-то. Вокруг стояла напряженная тишина. Темнота была хоть глаз выколи, и только вдоль мрачно черневших окопов там и сям робко мерцали огоньки солдатских самокруток.
Ничего нельзя было разглядеть во тьме, но, поборов сон, Еламан все всматривался в ту сторону, где, сосредоточив огромные силы, грозно безмолвствовал враг. Он не заметил, как уронил голову на бруствер и поплыл в сон. И опять сон, как показалось ему, длился одно мгновение. Вскинулся он от беспорядочной пальбы. Ничего несоображая спросонок, он схватился за револьвер. Но в расположении его отряда было тихо, стрельба раздавалась на правом фланге. Проснувшиеся джигиты все были на ногах. В темноте хищно клацали затворы.
— Что случилось? Что такое, а?
— Не знаю.
— Наступают, что ли?
— А где командир?
Поблизости гулко забил пулемет и тут же умолк. Постепенно утихла и винтовочная стрельба, над окопами опять воцарилась тишина. Но теперь никому больше не хотелось спать, черная ночь казалась бойцам еще более тревожной и опасной. И хотя никто еще не знал, кому придется пасть первой жертвой предстоящего боя, но все вдруг явственно почувствовали пронесшееся мимо них и пока еще никого не коснувшееся дыхание смерти.
IV
Ротмистру Рошалю повезло — он привел «языка». Он стоял в окружении радостно возбужденных солдат и тяжело дышал, все еще не в силах прийти в себя. Пот обильно тек у него из-под фуражки, и он то и дело снимал фуражку и утирался рукавом. У него спрашивали о чем-то, но он, не отвечая, рылся в карманах, доставая папиросы. Достал, спросил огня, прикурил дрожащей рукой и затянулся, вглядываясь в пленного, который стоял рядом. За короткое мгновение, пока светила спичка, Рошаль успел заметить длинные висячие усы, унылый длинный нос и невнятный блеск очков в проволочной оправе. Его поразил равнодушный вид пленного. Тому как будто хотелось спать, будто тот недоволен был бесцеремонно прерванным своим сном и тем, что попал вдруг в толпу оживленных солдат, которые не дают ему ни лечь, ни прислониться к чему-нибудь поудобнее. Рошаля особенно поразило, что в лице пленного не увидел он ни тени страха.
Распорядившись доставить пленного к подполковнику Федорову, Рошаль пошел к своему коню, стреноженному и пущенному на выпас еще перед разведкой. Гнедой, почуяв хозяина, негромко радостно заржал. Рошаль по привычке потрепал гнедого по шее и провел ладонью по спине. Конь чутко вздрогнул, Рошаль тотчас вспомнил про ссадину на спине гнедого и решил завтра же с утра показать его полковому ветеринару.
Идти никуда ему не хотелось, и, постелив шинель, Рошаль улегся навзничь рядом с конем и стал смотреть на усеянное звездами аспидно-черное небо. Глаза у него саднило, будто песок под веками был насыпан, хотелось спать. Он закрыл глаза, но тут же опять широко раскрывал их, вспоминая ночную свою разведку. Нет, не думал он, когда начинали стрелять, что удастся ему уйти живым. Но, видно, не кончился еще отпущенный ему судьбой вершок жизни. Как бы там ни было, а ни одна пуля не достала его. Под огнем волокли они пленного, и ничего, а солдата, которого он послал вперед предупредить свои дозоры, настигла пуля. Ну не чудо ли? Рошалю стало вдруг радостно и захотелось курить, но лень было шевелиться.
Перебирая в памяти события сегодняшней ночи, он снова подумал о пленном. Допрашивать его было некогда, удалось только дорогой бегло посмотреть документы, найденные при нем. 1860 года рождения, коммунист, командир роты Коммунистического полка… Рабочий Челкарского депо. Фамилия… как его, черт? Сквозняк? Нет… Озноб… А-а, Ознобин, вот как. Рошаль несколько раз повторил про себя эту ничего не значившую для него фамилию, закрыл глаза, перевернулся, завертываясь в шинель, и уснул. А проснувшись утром, опять вспомнил все подробности минувшей ночи и опять поразился, что остался жив. Увидев, что хозяин проснулся и сел, гнедой, напоминая о себе, тихонько заржал. «Пить хочет, — подумал Рошаль. — Надо бы напоить коня и самому умыться». У колодца толпились озлобленные солдаты. Ошалевший часовой сипло матерился и совал во все стороны штыком, никого не подпуская к колодцу. Рошаль поглядел на него и молча пошел прочь.
Ему опять вспомнился пленный, и он направился в штаб полка. Едва подошел он к большой палатке с приподнятым пологом, как услышал свист рассекаемого воздуха и шлепающие удары. Сердце его сжалось, он подошел ближе и, не решаясь войти, остановился.