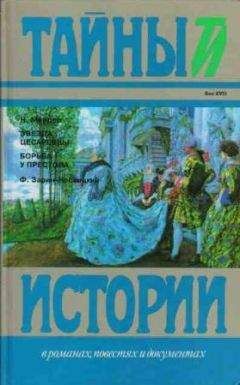Ну, и всякие такие разговоры. Дворня неспокойна… В кухне что творится — не приведи Бог!
— Что ж творится? — спросил с любопытством Семён Петрович.
— Словно неладное! — отвечал Евстрат. — Повар Тимошка прямо говорит, что не будет более холопов, что всем‑де Верховный Совет положил волю дать. Я, говорит, скоро сам буду вольный человек, женюсь на Малашке, никого не спрашаючись, и в Съестной улице лавку открою. Конюх Никита в деревню уйти хочет, дескать, обрадуют всех, вольные люди будем…
Евстрат помолчал.
— Ну, и волнуются, а тут вечор приходил к брату человек от князя Василь Владимировича. Весёлый такой. Говорит, сама царица-матушка, дай ей Бог здоровья, царским словом обещала волю нам дать… Оно, конечно, Семён Петрович, — взволнованно говорил Евстрат. — Воля… Надо воли… Конечно, грех Бога гневить, хорошо у нашего барина… А только, того… воли бы нам.
Молодое лицо Евстрата разгорелось.
— Скажи ради Бога, Семён Петрович, дала царица волю или так брешут только? Куды ни придёшь, везде про то говорят, и у самого графа-батюшки тоже.
Графом-батюшкой называли в доме Головкина, как отца Ягужинской.
Евстрат в волнении замолчал.
Молчал и Кротков, поражённый тем, что услыхал. Он не думал, не ожидал, что «затейки» верховников (это выражение он слышал от Ягужинского) найдут отклик среди бессловесных рабов. Он сам не знал, была ли в этом правда, думали ли об этом верховники, ограничивая самодержавную власть императрицы, но эта мысль ослепила его. До сих пор он смотрел на разгоравшуюся борьбу, как на борьбу, в которой замешаны только могущественные, стоявшие на самом верху люди. И вдруг оказывается, что эта борьба отозвалась глубоко внизу и возбудила мечты и надежды тех, кто за долгие века рабства, казалось, привыкли видеть свою судьбу в полной зависимости от произвола своего господина.
Кротков долго молчал и наконец ответил:
— Я ничего не слышал об этом, Евстрат; напрасно волнуются. Как бы не стало потом хуже.
— Так, значит, пустое, одна брехня, — уныло и угрюмо ответил Евстрат. — Я так и полагал. Ну ж я покажу им, как брехать, — злобно добавил он, и в его словах чувствовалась обида человека, обманутого в своих надеждах.
— Погоди, Евстрат, — остановил его Кротков. — Время теперь смутное, надо подождать, когда приедет императрица. Она полегчит вам.
— Полегчит, — с сомнением ответил Евстрат. — Спасибо, Семён Петрович, — закончил он и, махнув рукой, вышел вон.
Новые мысли, новые чувства пробудили слова Евстрата в душе Кроткова. Верховники могущественны, они ограничили самодержавие императрицы, они теперь могущественнее её самой. Почему бы им и не сделать этого? А может, они думали о том? А почто же тогда восстал против них Пётр Иванович?
Мысли бурей налетели на Семёна Петровича. По своему рождению он был близок к этим дворовым. Его бабушка была из дворовых Олсуфьевых, брат его деда был дворовым Шереметевых. Ему были близки и слёзы, и горе рабов. Но Павел Иванович говорил, что Долгорукие лишь о себе мыслят, а дворовый Долгоруких говорит, что они не для одних себя воли хотят…
Кротков так взволновался, что не мог сидеть дома Он оделся и вышел на улицу, направляясь к Кремлю.
На улицах было большое движение, и тем оживлённее, чем ближе к Кремлю. Цветными лентами тянулись по прилегающим улицам армейские и гвардейские полки, ехали сани и кареты, на перекрёстках стояли военные посты. У большого кремлёвского дворца толпился народ. День был морозный и сумрачный. На площади кое-где горели костры.
Странное впечатление производила Москва. Это был будто осаждённый город. Чего ждали все эти люди, толпившиеся у дворца?
То здесь, то там слышались сдержанные разговоры. В одном месте говорили, что сегодня Верховный Совет объявит всем волю; в другом — что собираются судить Долгоруких — Алексея Григорьевича и его сына, любимца покойного императора Ивана; в третьем — шёпотом передавали, что императрица Анна умерла и что сейчас объявят императрицей цесаревну Елизавету.
Слухи один нелепее другого передавались из уст в уста.
Кроткову удалось проникнуть до самой линии солдат, тёмным кольцом охвативших дворец. Подходили всё новые и новые отряды. Они оцепляли площадь, шпалерами становились вдоль прилегающих улиц, частью входили в самый дворец под командой офицеров. Среди шпалерой выстроенных солдат подъезжали ко дворцу непрерывной цепью сани и кареты приглашённых лиц. Кучера и форейторы кричали и ругались, и потом, высадив господ, отъезжали в сторону на особо отведённое для них место. Проезжали некоторые кареты, не останавливаясь у подъезда, прямо к месту стоянки пустых карет. Это были большей частью кареты резидентов иностранных дворов. По распоряжению Верховного Совета ни один иностранец не был приглашён на это историческое заседание 2 февраля.
Проехали французский резидент Маньян, испанский герцог де Лирия и де Херико, саксонско-польский — Лефорт и некоторые другие.
Они хотели видеть настроение народа и получить сведения о происшедшем иод первым впечатлением для донесений своим дворам.
Внушительное и грозное впечатление производили пёстрые ряды стоявших у дворца в боевой готовности войск.
Огромная зала дворца, ярко освещённая, потому что утро было сумрачное и туманное, едва вмещала всех приглашённых. Слышался гул сдержанных голосов.
Собрание было более многолюдно, чем двенадцать дней тому назад, когда так же представители Сената, Синода и генералитета ждали властного слова верховников об избрании Анны.
И настроение теперь было напряжённее. Теперь решались будущность империи, судьбы всех сословий, падение одних, возвышение других. Полная ломка старого государственного здания, под развалинами которого, быть может, погибнут многие и многие жертвы.
Перед закрытой дверью из большой залы стояли неподвижно часовые. Это был почётный караул. За дверью происходило совещание Верховного тайного совета. Перед дверью, несколько в стороне, был поставлен большой стоя, покрытый красным сукном, и около него кресла.
Ягужинский нашёл в первых рядах Алексея Михайловича Черкасского, Ивана Фёдоровича Барятинского, фельдмаршала Ивана Юрьевича Трубецкого н других высших сановников. Все они были раздражены и не скрывали своего раздражения.
— Что, мальчик, я им дался! — говорил Иван Юрьевич. — Я, слава Богу, фельдмаршал. Уйду, верно, уйду.
Толстый Алексей Михайлович сердито пощипывая свою бороду и угрюмо посматривал на запертую дверь. Ягужинский старался казаться спокойным, но это ему плохо удавалось. Он то и дело нервно оправлял на себе голубую ленту, беспокойно озираясь кругом. Он увидел мало утешительного. На лицах большинства высших чинов была полная растерянность.
Угрюмо, с мрачным видом стоял во главе представителей Синода новгородский архиепископ Феофан. Он казался погружённым в глубокие