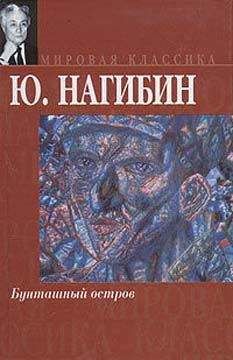— Ты из Колычевых, — тоном утверждения, не вопроса произнес Иван. — Из каких же ты Колычевых, из тех, кто бунтует, или из тех, кто царскую руку лижет?
— Ни из тех, ни из других, — тихо ответил Филипп. — Я из тех, кто уходит в сторону.
— Бежал, значит?
— Бежал, государь. Был молод и жить хотел.
— А сейчас ты стар и жить не хочешь?
— Хочу, государь. Пуще прежнего. Ибо знаю теперь, для чего жизнь дана.
— Для чего?
— Для доброго, — сказал Филипп.
Из темных ям-глазниц сверкнула молния.
— Не многому же ты научился, чернец, — насмешливо проговорил царь. — Да ладно. Не о том речь. Скажи, почему не согласен с решением Собора о Святой Троице?
— Я присоединился к решению Собора, государь.
— Против воли. Не хитри со мной, Филипп!
— Сколь же ты зорок и проникновенен, государь, если не только углядел меня, малого, в толпе духовных, но и прочел мои сокровенные мысли! — Уклоняясь от прямого ответа, Филипп не мог не восхищаться сверхъестественной проницательностью Ивана.
— Не юли! — яростно крикнул царь.
— Что есть перекрестие в нимбе? — подчеркивая неокрашенностью голоса общеизвестность истины, начал Филипп. — Превосходство чести Христа над апостолами и святыми. Три ипостаси Святыя Троицы равночестны. Стало быть…
— Стало быть, — зло прервал Иван, — дурь и кощунство был мой вопрос. А духовные и не заметили. Ну, хороши!.. А ты не играй со мной, чернец. Сам знаешь, о чем спрашиваю: который из трех Иисус?
— Не то тебя заботит, государь, — ровным голосом произнес Филипп. — Хочешь знать, который из трех Бог Отец.
Иван отпрянул от Филиппа, голова его ушла в тень, свет позолотил руки с длинными крючковатыми пальцами.
— Что сказано в Писании? «Одесную мя сидеть будешь». То Отец говорит Сыну. Посреди и выше других — Бог Отец, справа от него Иисус.
— Ну а рука, рука, протянутая к чаше?.. — жарко дохнул Иван.
— Бог Отец указует Сыну на чашу, кою тому испить предстоит во искупление грехов человеческих.
— Ну, ну!.. — задыхался Иван. — Не умолкай, монах!..
— Преподобный Рублев, создавший непревзойденное изображение Святыя Троицы, взял образ византийский. И надо вовсе не ведать, сколько привержены иерархии и догме византийцы, чтобы полагать, будто они посадят Бога-сына выше Бога-отца.
— Не плети даром словес, — дрожа от возбуждения, проговорил Иван. — Прямо скажи: не сидеть Сыну выше Отца. Не сидеть! — крикнул он в исступлении и выдвинулся из подлампадного сумрака желтью высокого лба, горбиной носа, острыми скулами. — Царь — помазанник Божий: Он — отец, и все — его дети. Не сидеть никому выше отца. Ишь, духовные чего удумали. Отца принизить, выше царя сесть. Не выйдет!.. Изничтожу крамолу церковную, как крамолу боярскую. Ваше племя хитрое, коварное. Не забыл я аспида Сильвестра… Не прощу и вам Отца унижение. Чашу, чашу не мог разгадать!.. Поверил, что рука к ней тянется, ан — указует!.. Одесную и ниже сидящему Сыну указует Отец, что изопьет тот до последней капли чашу страданий… Да Он и величественней Сына, благолепнее… Но почему столь со Спасом рублевским схож? — спросил он с тоской.
— Не дал Он лицезреть себя. Лишь в образе Богочеловека на землю являлся. А с кем же быть схожим Сыну, как не с Отцом?! И должен изограф Господу Богу знакомые в Сыне черты придать. Все образы Святыя Троицы, Великий Государь, меж собой схожи, они — одно лицо в трех выражениях. Да не сомневайся ты боле, Государь. Дух Святой — от Бога, а коли Христос посредине, стало быть, от него Дух святой исходит. А это ж неправда!
— Истинно, истинно, Филипп! Дух Святой — ошую Бога-отца, ибо от него исходит. Говори еще, монах, ты не все сказал. — Спас Рублева — не лик Христа, а символ Бога, во всех его ипостасях. В Сыне провидим мы Отца и веяние Святого Духа. Обратившись к Святыя Троице, государь, взгляни непредвзято, и в среднем ангеле ты узришь Отца мягкого, бесконечно сострадательного…
— Замолчи, монах, ты все сказал!.. Не улещивай мя. Кому лучше знать, каким Отцу быть надлежит, самодержцу или лисе монастырской?
Но что-то отпустило Ивана. Не было злости в его голосе, и даже улыбка дернула сухие, запекшиеся губы, на мгновение прогнав то мятущееся, страшное, что корчило, искажало выразительные, даже красивые черты его лица. Филипп вдруг представил себе его ребенком, и ребенок этот был мил: живой, любознательный, черноглазый… Он почувствовал жгучую жалость к этому несчастному и ужасному человеку, который мучил других, но и сам горел в адском пламени, не таким он был задуман природой. Но добрый миг уже миновал, Иван вновь выпустил когти.
— Отчего же, Филипп, все столь понимаючи, молчал ты на Соборе и позволил святотатству свершиться?
— Бог един в трех лицах, государь, святотатства тут нету. Речь не о догмате веры шла, лишь о толковании иконы.
— Ох и увертлив ты, Филипп!.. Ох, ловок!.. Да не больно храбер.
— Сам же сказал тебе, государь, что не из бунтующих я Колычевых. — Вопреки смиренным словам голос не был умягчен чрезмерным смирением. Филиппу прискучило изображать трепет, он устал.
— Умеешь ты себя беречь, Филипп! — Но Грозный чутко уловил изменившуюся интонацию и притемнился: — А откуда у тебя все эти мысли? Мудрствуешь, видать, много… Больно учен, языки вон древние изучил…
— Не тверд я в них, — вновь собрался для самозащиты Филипп, поняв, что сейчас подступила главная опасность: царя плохо учили в отрочестве, после он сам добирал знаний острым, жадным умом да Сильвестровой помочью. И не любил он чужой учености, особо у церковных. Впрочем, боярское любомудрие тоже не больно жаловал, с тех пор как бежавший Курбский в предерзостных посланиях раз-другой поймал его на невежестве. И, вздохнув, Филипп сказал: — Видение мне было, государь.
— Какое видение? — недоверчиво, но с любопытством спросил суеверный — при всем своем пронзительном уме — царь Иван Васильевич.
— Молился я нощию во келейке, и явилось мне вдруг померанцевое деревце, что в южных странах обитает, а в нашем холоде расти не способно. Я его, конечно, сроду вживе не видел, а во сне узрел. Только вот что чудно: цветет оно белыми, как кипень, цветами, а тут было осыпано пунцовым цветом, как заря в предгрозье. И затрясло оно всеми веточками, всеми цветиками, и зашептало, зашелестело о Святыя Троице. Все, что я тебе, великий государь, ныне говорил, услышал я от того дивного померанца.
— И утешил ты меня, Филипп. Утешил, Колычев-ускользающий. Нет, ты не крамольный человек. Но ты хитрый, Филипп, ишь, какой побасенкой государя своего потешил. А ты меня умом ниже себя ставишь, коли думаешь так легко провести. Детская твоя хитрость, но она не со зла, а во спасение. За главную правду, от тебя услышанную, прощаю твою хитростенку. Спасайся и дальше, Филипп. Бают, в дивный вертоград обратил ты дальнюю высыпь моей земли? Ты что там — рай задумал создать?.. — вонзился черным блеском. — Самому Господу уподобился?
«А ведь он угадал! — захолонуло под сердцем. — Сказал то, в чем я самому себе не признавался. До чего ж проникновенный ум!..» И мурашки неподдельного трепета пробежали по коже.
— Больно студено там для рая, государь. А не бедствуем твоими милостями…
— Замолчи, монах, не клянчи! Все нищенствуете, богатеи!.. Сам решил вотчинку подкинуть. С сим отпускаю тебя, честный инок, — с непонятной насмешкой заключил этот удивительный разговор Иван.
А когда Филипп уже выходил, вдруг окликнул:
— Разговор промеж нас двоих останется. Пусть изографы пишут, как Собор решил. Мне самому знать хотелось. Ступай с Богом!
И отпустил мирно толкователя Святыя Троицы. А ныне вспомнил. Потому вспомнил, что помер митрополит Макарий, а выбранный на его место старый Арсений скорешенько отпросился на покой. Любо было государю, что отвел Филипп должное место Богу Отцу, такой не дерзнет свой престол над государевым поставить. Иван Васильевич убедился, что не обделен разумом соловецкий игумен, но покорен и уклончив, не стремится к власти и лишен честолюбия. Удобен царю в митрополитах тихий, небунтующий, сызмальства напуганный человек; поднятый с низшей ступени на высшую рукой Государя, будет он послушным исполнителем его воли. И нет у него связей ни с духовными, ни с боярством, нет ни в ком опоры, кроме царя. Будет он все в угоду Ивану Васильевичу делать, благословит опричнину — черную нечисть при метле и отрубленной собачьей голове и любую затею неленивого царского ума. Вон когда аукнулось и вон как откликнулось, невесело думал Филипп, колыхаясь на волнах Белого моря.
Весь путь до Москвы старались проделать водой — бездорожная сторона, но приходилось кое-где и волоком пробираться. Кругом топи, болота, кочкарник, морошка, леса непролазные. Только в Ярославле посадили духовных в возки, а ратные мужи сели на коней. И все дни путешествия не переставал Филипп удивляться громадности, богатству и неустройству родной земли. Когда тридцать лет назад бежал он всполошенным зверем на север, то ничего не замечал вокруг, ничем не заботился, кроме тропок, стежек, перелазов и переправ, чтобы скорее оставить меж собой и страшной Москвой как можно больше земли. На Стоглавый собор везли его в беспамятстве тяжелой болезни, думали — не довезут, а возвращался он в розовом тумане счастливого избавления, всему радуясь и ничего толком не видя. Зато сейчас его очи будто промыло: увидел он нищету и дикость, в которых скорбит посреди несметных богатств народ, населяющий северные земли русского отечества. Пустынны берега рек; ни водяных мельниц, ни тоней, изгнивают избенки под сопревшими соломенными крышами, а кругом высокоствольные леса, под ногой глина, на кирпичи годная; Филипп хорошо знал землю и по цвету ее мог сказать: здесь железу в недрах быть, там — иному крушецу, там — красителям. Он видел рои диких пчел, но в лесах «бортничал» лишь медведь, а люди не знали вкуса сладости. Видел пойменные луга, на которых можно выкармливать коров с редкой жирностью молока, а коровенки паслись мелкие, худые, с пустым выменем. Природа давала все, чтоб человек был сыт, пит, добротно одет, жил бы в справных, чистых, теплых домах, а людям подводило животы от голода, ходили босые, в дранье, а в домах — грязь, вонь, духотища. Люди не только не умели брать от земли что положено, они не знали и боялись ее; боялись лесов, болот, озер и придумывали им страшные названия, чтобы и детей своих от них отпугнуть. От заморенных деревень мало чем отличались города: ну, посередке, как водится, собор, бывало, каменный, торговые ряды, палаты правителя да несколько справных домов местной знати или разбогатевших купцов, а вокруг те же испревшие избы, непролазная грязь, худые свиньи в лужах, лапотное население.