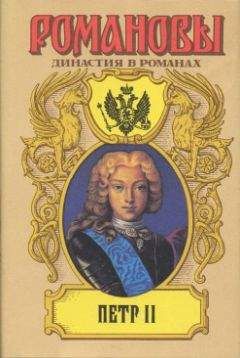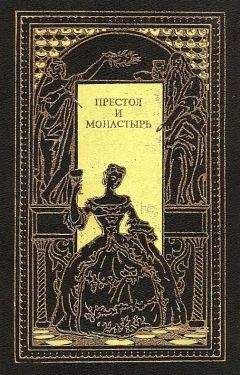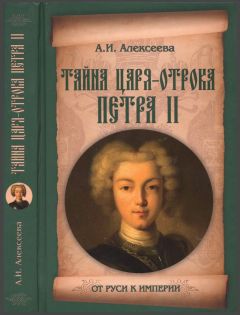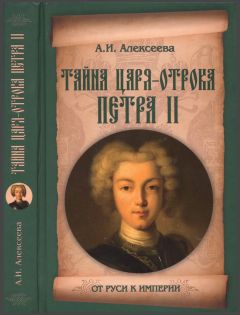— Вот ты сидишь со мною рядом, а прежде наши вельможи, иностранные принцы и князья платили деньги за то, чтобы попасть ко мне во дворец, и каждое слово моё считали особою милостью. Теперь же самые дорогие для меня гости — неимущие.
Не обманывал и не обманывался Александр Данилович. Под сибирскими снегами он узнал истинную цену мирской славы, открывшимся сердцем понял высокое учение Христа и не лицемерил, когда почти постоянно шептал:
— Благо ми Господи, яко смирил мя еси!
И Александр Данилович действительно не жалел о прошлом фаворе, так он нравственно вырос, вырос до той высоты, которой он никогда бы не достиг около престола, вырос в тот момент, когда с сердечной простотой высказал сидевшему рядом с ним мещанину Бажанову:
— Теперь мне смерть не страшна, а как боялся я её на высоте величия!
Даже по наружности Александр Данилович поздоровел, видимо пополнел от физических трудов, добрые глаза смотрели бодрее, отпущенная широкая борода придавала мужественный вид; но это только казалось. В действительности же та болезнь, которой он страдал в величии, от которой ломило грудь, изливалась кровь и от которой он падал без чувств, незаметно, но постепенно продолжала своё разрушительное дело.
Единственное тёмное облачко, которое пробегало порой по светлому облику Данилыча, — забота о судьбе своих детей, но сами дети не давали никакого повода печалиться о них; все они казались весёлыми, покойными и счастливыми. Сын, бойкий мальчик, деятельно помогал отцу, учился и скоро привык к новой жизни; младшая дочь во всём брала пример со старшей, а старшая, Маша, бывшая обручённая невеста государева, не только нисколько не жалела о прошлом, а, напротив, радовалась, что это прошлое минуло навсегда. Не много она ещё жила, но много испытала. Как цветок, выращенный в теплице, она в тлетворной среде развилась быстро, и когда её сверстницы ещё учились или переходили от кукол к грамоте, она уже любила, и любила глубоко, своего милого, доброго жениха Сапегу. Жизнь ей тогда улыбалась, но вот вдруг, в самый расцвет счастья, нежданно-негаданно налетело горе. Императрица Екатерина отняла у неё жениха, назначив его своей племяннице, суровый отец приказал быть невестой, которой все завидовали. Ни она не любила жениха, ни государь-жених не любил её, а тут каждый день перед глазами любимый человек — жених, а потом и муж другой. Изныло, истомилось её сердце от постоянного принуждения, от постоянной борьбы с собой — и почувствовала она себя легче, когда очутилась в новой жизни. Нелегко и здесь! Во всём лишения, недостаток, но нет, по крайней мере, постоянного мучения; неустанные заботы об отце, о брате и сестре, хлопоты по хозяйству, к которому надобно было приучаться, занимали всё время, усмиряли и успокаивали волнения. Порой, правда, память рисовала ей минувшее счастье, вспоминала она о балах, где за ней так все ухаживали, льстили ей, уверяли в любви и преданности, многие казались ей тогда такими преданными, такими любящими. Вспоминала она, например, обожание, какое-то благоговение перед ней князя Фёдора Васильевича Долгорукова; но вслед за тем с горечью чувствовала, что всё это было поддельное, лживое, и она успокаивалась; мало-помалу вытеснялся из сердца и образ жениха Сапеги.
И чем более проходило времени, чем ближе арестанты осваивались со всеми окружающими их простыми людьми, тем больше они находили сами в себе силу, мир и спокойствие.
Жизнь текла однообразным, определённым порядком. Даже когда работы по устройству церкви кончились и у Александра Даниловича оказывалось более свободного времени, даже и тогда ни разу жалоба или сожаление о прошлом не мелькнули у него в голове. Первую острую боль победил физический труд, а потом религиозное чувство расширило иное миросозерцание. Александр Данилович как будто даже полюбил дикую местность, яснее она говорила ему о назначении человека. Полюбил он пустынный берег Сосвы, куда уходил после вечерней церковной службы, усаживался на излюбленном своём местечке и, смотря на быстро струившуюся реку, воды которой журчали и неслись куда-то вдаль, задумывался и просиживал там неподвижно целые часы до тех пор, пока не позовёт его домой ласковый голос бывшей обручённой невесты. Прошёл год, и ссыльные стали пользоваться значительно большей свободой. Раз, пользуясь хорошей погодой, в конце августа, Марья Александровна вышла гулять по знакомой укатанной береговой дорожке и отошла довольно далеко. Исчезли из виду острог и городские лачуги, только ещё церковный крест, освещённый последними лучами заходящего солнца, блестел над ближним пригорком. Кругом, в пустынной равнине, мёртвая тишь; ни голоса человеческого, ни какого следа его неугомонной деятельности. Марье Александровне по душе это безлюдье, могилою сказывается оно, и самой ей становится так же спокойно, как спокойно лежать в могиле.
Но вот где-то простучала как будто телега, затем всё смолкло, потом через несколько минут стук повторился ближе, ещё ближе, и из-за поворота дороги показался экипаж местной конструкции. В той будничной, серенькой жизни, какую вели ссыльные, каждое, самое мелочное обстоятельство составляет событие, к которому невольно приковывается внимание. Марья Александровна с любопытством вглядывается: на облучке остяк, новый их знакомец, иногда доставляющий им припасы, но кто же другой? По одежде не то мещанин, не то крестьянин. Незнакомец, как видно, торопится, он то оглядывается кругом, то пристально смотрит вдаль, наклоняется к туземному вознице и нетерпеливо дёргает его за рукав. Телега поравнялась с девушкой.
— Стой! — кричит незнакомец и, моментально соскочив с телеги, становится прямо перед удивлённой и испуганной Марьей Александровной.
— Княжна Марья Александровна! — едва выговаривает от волнения незнакомец, задыхаясь и не отрывая от неё глаз.
Странно прозвучал титул в ушах княжны, отвыкшей уже от почестей, почти забывшей их.
— Княжна Марья Александровна, не узнаёшь меня? — спрашивал проезжий.
— Я не знаю тебя… кто ты? — спрашивает и княжна.
— Вглядись хорошенько, может, и припомнишь.
Но как ни вглядывалась, как ни припоминала девушка — она никак не могла признать в этом запылённом, в сером зипуне, в обросшем бородой проезжем никого из старых знакомых. Да и как бы эти старые знакомцы могли попасть сюда?
— Не узнаю… — решительно отказывается княжна.
— Вспомни… не был ли у тебя, когда ты была в величии, преданный тебе человек, который тогда не высказывал своих чувств потому… что тогда ты не выслушала бы… любила другого… — отрывисто напоминал серый зипун.
— Да… ты… но этого не может быть… — вспоминала Марья Александровна, — ты похож…
— Да на кого ж? — нетерпеливо допрашивал проезжий.
— Ты похож… да этого не может быть…
— На князя Фёдора Васильевича, — наконец высказал странный человек.
— Да… правда… так ты князь Фёдор Васильевич? Но как ты здесь? Зачем? В опале? Кто же там теперь? — закидывала его вопросами девушка, с недоумением оглядывая окладистую бороду и запылённый зипун.
— Не в опале я, милая княжна, по-прежнему состою обер-егермейстером при государе, по-прежнему в милости, и там… ничего не переменилось.
— Так как же это? — ещё более путалась княжна.
— Пойдём к вам… дорогой расскажу.
И рассказал Фёдор Васильевич просто, без витиеватых фраз, как он после отъезда Меншиковых разума лишился, как щунял его отец Василий Лукич, как потом махнул на него рукой и как наконец он отпросился у государя будто по делам в вотчину, а сам сочинил себе паспорт под именем мещанина Фёдора Игнатьева и приехал сюда. Фёдор Васильевич не сказал — зачем, да этого и не нужно было — княжна давно всё поняла и давно уже, с самого начала рассказа, румянец заиграл на её исхудалых щеках, а с густых длинных ресниц скатывались слезинки.
— Пойдём к батюшке, и скажи ему всё… — решила девушка, когда князь Долгоруков кончил свой рассказ.
— А ты что скажешь?
— А я?.. Можешь и сам догадаться… — тихо проговорила счастливым голосом Марья Александровна.
Подошли к острогу; часовые затруднились было пропустить незнакомого зипунщика, но согласились по усиленной просьбе княжны, которую любили все, и караульные, и обыватели.
Фёдор Васильевич повторил рассказ свой Александру Даниловичу и по окончании упал перед ним на колени.
— Хотя ты из Долгоруковых… из врагов моих, и прежде бы я не согласился, но теперь у меня врагов больше нет, все мы нищие духом, и если Маша согласна, то с радостью благословлю, — решил Александр Данилович, поднимая Фёдора Васильевича и трижды любовно целуя его.
Мещанин Фёдор Игнатьев для своего жилья нанял светлицу у старого отца Прохора, священника церкви, выстроенной Меншиковым, но бывал дома только по вечерам и ночам, дни же все проводил в остроге у ссыльного семейства. Скоро к новому поселенцу приехало несколько подвод с какими-то тюками, тщательно запакованными. «Видно, в торговлю пойдёт», — порешили местные обыватели; поговорили, поговорили да и замолкли, привыкнув к новому лицу и не заметив с его стороны никакого утеснения. Не обращало на него внимания и местное начальство с приставленными караульными, да как им и не быть снисходительными, когда Фёдор Игнатьев явился таким тороватым: кому подарит шубу, кому материи, кому какую ценную вещь.