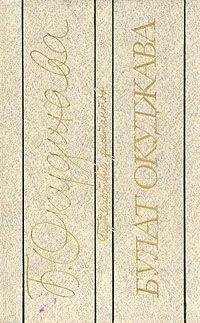Александрина проснулась, услыхав свист. Она не сразу поняла, где находится, но потом вспомнила. Через полуоткрытую дверь из библиотеки пробивался желтый колеблющийся свет.
Конечно, ее положение двусмысленно, но в чьих глазах? И он хочет, чтобы она жила в этом трехэтажном деревянном дворце и была здорова и счастлива, этот князь, господибожемой, с цепкими руками и виноватой улыбкой. Когда он заслонил ее от ветра, как серый аист своими нервными крыльями упавшую с неба аистиху, разве уже тогда она не знала, как все должно было случиться? Разве она не знала? Разве не скребся о дверь и не пробивал головой стену пропитанный сивухой трактирный половой? И разве, протянув ей руку помощи, печальный профессор медицины мог пренебречь ее юной благодарностью? И разве не она, благоговея, приникала к своему несчастному студенту? И разве не знала, чем добр случайный офицер на Пречистенском бульваре? И когда она заглянула в библиотеку, где ему была приготовлена постель, разве не ей стоило большого труда не рассмеяться, ибо его безупречное притворство было как на ладони?… И разве она не знала, что, стоит ей упасть в теплую княжескую постель, и он войдет в халате и со свечой? И, проваливаясь в тяжелый сон, успела помолиться, чтобы этого не было, не случилось, не произошло, чтобы сейчас это не произошло, потом, потом, не нынче… господибожемой… разрушение… долг… красота… неминуемость… жар…
Что это был за жар? Жар болезни или жар неизбежности, вечный, неугасимый жар, поддерживаемый, словно жрецами, ее наивным студентом, и одичавшим в одиночестве профессором медицины, и франтом в зеленом мундире, и скотоподобным трактирным половым; вечный жар, презирающий стыд, ниспосланный небом, восхитительно чистый и оскверненный зловонием и грязью, осененный дрожащим сиянием догорающей свечи, не знающий высокомерия, но высокопарный, придающий обнаженным телам божественное совершенство, опаляющий нас на протяжении всей нашей короткой, счастливой, отвратительной, горемычной и царственной жизни, покуда не останется от нас холодная капелька воска… Что же это было?
Свист не повторялся. Недоуменная тишина расплывалась по комнате. На низком столе громоздился остывший ужин. От изразцов голландки тянуло райским теплом. Она вскочила с постели, взмахнула широченными рукавами его ночной сорочки, бесшумная, словно валькирия, пересекла комнату и заглянула в библиотеку. Он спал, подложив руки под голову, выронив бесполезную книгу.
«18 июля 1846 года
…Здоровье моей Александрины лучше, и доктор Шванебах весьма теперь доволен. Да я и сам вижу, что она расцвела. Угроза, кажется, миновала. Однако доктор сообщил мне все это, как обычно, с выражением грусти в саксонских глазах. Где–то в глубине души хитроумный эскулап все–таки что–то утаивает. Мой намек на желаемую отставку вызвал там целую бурю пересудов, и толков, и недоброжелательных восклицаний. Неужели я опять должен следовать общим правилам, прожив большую половину жизни? Вот так мы губим все лучшее в себе, все самые прекрасные порывы наших душ, служа молве, подчиняясь приличиям и чужим вкусам. Моя богоподобная сестра сколотила целую партию из подобных себе и, пользуясь своим положением, возбуждает против меня общественное мнение. Я уверен, что дойдет черед и до Александрины, и тогда гроза будет ужасна. Сестра уже разговаривает со мной на «вы».
«20 июля…
…Из Михайловки пришли неутешительные вести. Большой дом за четыре года подгнил и осел, требует чуть ли не перестройки. Малый давно уже ветхий. Хотя, если его хорошенько промыть да просушить, мы с Александриной вполне могли бы обойтись летом, а там, глядишь, и большой будет готов. А там, глядишь, может, и сокроюсь от твоих пашей… Я распорядился, чтобы большой дом привели к осени в порядок. Управляющий клянется, что так оно и будет. Значит, следует ожидать к следующему лету, не раньше. Я рассказываю все это Александрине и вижу в ее глазах испуг. Она боится стать княгиней Мятлевой. Она хочет быть со мной, но боится стать княгиней Мятлевой, это ее пугает. После всего, что она пережила, она считает себя недостойной ни этого пустого титула, ни меня… Впрочем, она тоже боится несбыточности этого. Она не хочет крушения иллюзий! Ей все кажется, что мой Рок, сопящий, серый, бесформенный, топчущийся во мраке, неумолимый, требующий жертвы, что он не только мой, но и ее, и что он не позволит ей быть по–настоящему счастливой».
«26 июля…
…Она была права: кашель внезапно усилился и снова появился небольшой жар. Упрямец Шванебах твердит, что это летняя духота тому виною и что если выехать в Михайловку, то природа окажет благотворное воздействие. Весь день прошел в хлопотах, но добиться ничего не удалось. Вопрос с отставкой остался открытым, а время идет, и Петербург – не лучшее место для поправления здоровья. Чтобы отвлечь Александрину от грустных раздумий, которым она предается тайком от меня, и чтобы несколько разнообразить хотя бы на первое время ее туалет, я предложил ей ехать в Гостиный Двор за покупками. Она совершенно неожиданно обрадовалась, как девочка. С отчаянной поспешностью мы полетели туда. Она закружилась среди материй, и лент, и кружев, выбирая, примеряя, отвергая, ликуя. Затем внезапно охладела ко всему. От духоты ли магазина, но ей стало плохо. Потом ей уже все было немило, и она ничего не хотела выбирать, и мне стоило большого труда убедить ее взять хоть что–нибудь, и я пошло шутил что–то такое насчет моих ночных сорочек, которые пришли в ветхость. После обеда случилось маленькое происшествие. Болван Афанасий имел как–то неосторожность рассказать ей о проклятых привидениях, которые населяют наш дом. С тех пор я замечал, как она по вечерам прислушивается к звукам дома, а нынче прибежала в библиотеку, уверяя, что видела, как некто в белом возник перед нею и растаял. На ней не было лица. «Поменьше слушала бы этого идиота», – сказал я. «Господибожемой, я же не утверждаю, что оно было, – сказала она, пытаясь улыбаться, – я же не утверждаю…»
«28 июля…
…Управляющий предложил привезти Александрину в имение, чтобы она пожила там, покуда я здесь все улажу. Она наотрез отказалась ехать без меня. Я этому про себя обрадовался, хотя бурно негодовал, бушевал и всячески лицемерил. Она, конечно, все это понимает, но прощает меня. «Господибожемой, как он меня любит!» Вчера был Амилахвари. Она его сразу очаровала, да иначе и быть не могло: она действительно трогательна и прелестна, а он готов пригреть любую раненую птицу, а уж такую, как она… Она меня спросила: «Тебе не кажется иногда, что я угождаю тебе ради того, чтобы жить в сытости?» – «Опомнись, Александрина,
– сказал я, – видит бог, я ничего такого никогда…» – «Какой странный, – пропела она, – он думает, что я не могу бояться нищеты и ради этого… Да кто ему сказал? Как будто я… Да я же тебе рассказывала! Я ведь тебе рассказывала, я тебе обо всем рассказывала…» И тому подобное… Кстати, о позавчерашней истории с привидениями. «Я же не утверждаю…» – сказала она. Тогда я позвал Афанасия. Он явился в каком–то дурацком шарфе на шее, весь нашпигованный Вальтером Скоттом, лоснящийся от сытости, но с благородной синевой под глазами. Я выговорил ему за то, что он распускает всякие вздорные слухи и вот напугал Александрину. «А как же, – с достоинством ответил он, – не я придумал. Исторические, если позволите, легенды». Чтобы убедить меня, он принес обрывок старой простыни, утверждая, что сам однажды отхватил этот кусок от покрывала привидения, пытаясь задержать его. «Оно, если позволите, совсем бестелесное, не ухватишь. А покрывало вот тонкого полотна». Все это, в общем, произвело на Александрину удручающее впечатление……Звуки трубы, полусвет, полутьма – бесчинство природы или человеческое создание, горькое, как сам создатель?»
«30 июля…
…Отвратительный день… Богоподобная моя сестра не замедлила свалиться на нашу голову именно в тот момент, когда Александрина отдыхала после обеда. Бедная девочка, наслышанная о фрейлине, вскочила, начала судорожно приводить себя в порядок, но сестра сделала вид, что не замечает ее, и прошла ко мне в библиотеку. У нас состоялся следующий разговор.
Она. Я все знаю. Можете не оправдываться.
Я. Я и не думаю оправдываться. Мне не в чем оправдываться. И потом, Лиза, ты могла бы врываться в мой дом не так стремительно.
Она. Помимо того, что вы своими выходками взбудоражили весь Петербург.
Я. Тебе бы следовало сначала…
Она…Я уже не говорю о дворе, вы позволили себе унизиться настолько, что привезли даму из трактира…
Я. Что ты говоришь, опомнись!
Она…вы тащили ее на виду у всех, и весь Петербург теперь открыто говорит об этом… Вы уже так скомпрометировали себя…
Я. Послушай, Лиза…
Она…что восстановить свою репутацию вам теперь не удастся, но почему вы…
Я. Не оскорбляй меня… Выслушай меня…