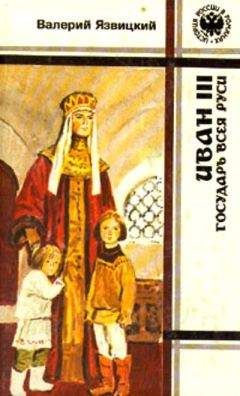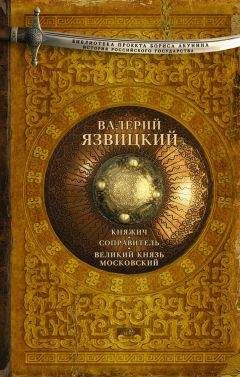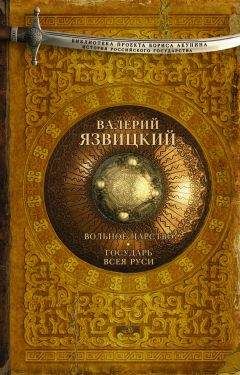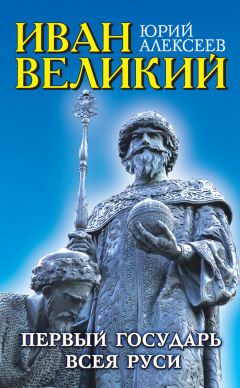Увидев Шемяку со спутниками, Бегич и Добрынский почтительно встали.
— Ассалям галяйкюм, — сказал Бегич, прикладывая руку к сердцу и низко кланяясь, — с сеунчем[44] к тобе я, княже, от царя Улу-Махмета, да живет он сто лет…
— Вагаляйкюм ассалям, — радостно ответил Шемяка, — победа Улу-Махмета — моя победа, да здравствует царь многая лета…
Своеручно налил Димитрий Юрьевич водки боярской в кубки испить за царя, потом за царевичей, а по третьему разу налил всем за здоровье Бегича. Пили потом за Шемяку, и Бегич сказал ему по-русски, подымая свой кубок:
— Живи сто лет отныне, великий князь московский! Вольный царь казанский Улу-Махмет жалует тобя великим княжением, а ворога твоего князя Василья до смерти в полоне держать будет. С этим жалованием послал меня царь из Новагорода из Нижнего, а тобе быть во всей его воле и на том шерть[45] свою дать царю…
— Напишу яз царю шертную грамоту крепкую, — поспешно воскликнул Шемяка, — пусть токмо Василья задавит!..
— Царь казанский, да живет он сто лет, — продолжал Бегич, — послал меня к тобе августа двадцать пятого дня, а сам с войском пошел к Курмышу с несметными богатствами и полоном…
Шемяка поклонами и знаками пригласил всех садиться за стол, а Никита Константинович наполнил чарки дорогим заморским вином, что редко подавалось к столу у галицких князей. Цену заморскому вину отлично знал и Бегич и, судя по приему и угощению, ясно понимал, какое значение придают здесь его приезду.
Он покровительственно улыбнулся, когда услышал, как Шемяка винился, что не успел приготовить всего, чтобы с почестью встретить дорогого гостя, и обещал к вечеру и на завтра обильные пиры-столованья. Бегич знал достатки удельных князей и ответил грубоватой шутливой пословицей:
— Айда байрам бит ача, кюн байрам кыт ача.[46]
Все рассмеялись, а Шемяка поморщился от обиды, но стерпел и ласково ответил:
— Такой русский обычай. Недаром по старине говорится о гостях: «Напой, накорми, а после и вестей поспроси!..» Попируем, чем бог послал, а потом побеседуем…
— Ну ничего, — снисходительно заметил татарин, — сядешь на московский стол, поправишься на великокняжьих прибытках…
С каждым днем больней и несносней были Шемяке обиды от улу-махметова посла, но злоба и зависть к великому князю Василию заставляла его терпеть все своеволья татарина.
— Покланяемся агарянам поганым, — говорил он наедине князю Ивану Андреевичу, — да зато Василья сгонить легче будет, а там и с царем иным языком говорить можно! Стану князем великим, укреплю всех удельных. Бегич верно о прибытках молвил. При московском богатстве и татары нам ниже поклонятся.
— Дай-то бог! — проговорил Иван Андреевич и, усмехнувшись, добавил: — Дай бог нашему теляти да волка поймати!..
Шемяка вспыхнул, сверкнул гневно глазами, но взял себя в руки и громко засмеялся.
— Василий-то волк?! — воскликнул он презрительно. — Коли он волк, то ты самого льва страшней…
— Не о Василье речь, — досадливо отмахнулся князь можайский, — о том, что Москва за него. Василий-то и так в яме. Москва страшна, а не Василий…
Вошли, кланяясь, Никита Добрынский, и Федор Дубенский.
— Государь, — сказал Никита, — составили мы с Федором Лександрычем грамоту к царю. Как прикажешь царя называть и собя? Вторую неделю с Бегичем спорим, а он от своего не отступается. Хитер и ловок, собака. Хоть скуп он и жаден, а деньгами и подарками не купишь.
Никита Константинович развернул бумагу и продолжал:
— Вот так он требует писать-то: «Казанскому великому и вольному царю Улу-Махмету. Твой посаженник и присяженник, князь Галицкой, много тя молит…»
Шемяка прервал чтенье боярина крепкой площадной бранью и, вскочив из-за стола, заходил взад и вперед по горнице. Потом, переярившись, опять подошел к столу и за единый дух выпил полный ковш крепкого меда. Постоял немного и тихо промолвил:
— Ладно! Пиши так. Лучше поганым, лучше самому дьяволу покориться, чем Василью. Как ты мыслишь, Иван Андреич?
Снова замолчал, тяжело переводя дух, а князь можайский усмехнулся.
— По мне, все едино, — сказал он, — лишь бы нам и детям нашим добро было.
— Да ведь татары-то, — закричал Шемяка, — остригут нас, словно овец!
Ведь и все удельные-то захотят тоже куски оторвать, а там еще и Тверь и Рязань!..
Иван Андреевич опять усмехнулся своей вялой усмешкой и сказал, прищурив лукаво глаза:
— А ты мыслишь, все за тобя зря ума будут стараться, токмо для-ради красных слов.
— Верно, верно, — злобно согласился Шемяка, — к собаке сзади подходи, а к лошади — спереди…
Обернувшись к боярину Добрынскому, он сказал с истомой и изнеможеньем:
— Ну так и быть! Пиши с Федором Лександрычем, как оба разумеете, но помните токмо: и мое и ваше горе на одном полозу едут! Зови Бегича, да потом так наряди дело, чтобы ехал скорей к царю. Запировался у нас, а уж и бабье лето минуло и спасов день прошел. Гусиный отлет начался. А ехать-то ему кружными путями больше недели и к покрову не вернется. Да скажи, слух, мол, есть, что князь Оболенский, воевода Васильев, полки собирает, по всем дорогам конников шлет и дозоры держит в разных местах…
Боярин Добрынский вышел, а Шемяка, отвернувшись от всех, стал у отворенного окна, заглядевшись на белое облачко, что плывет в сини небесной над темными лесами дремучими. Гложет тоска Шемяку. Эх, забыть бы все, запамятовать тревоги и горести, а губы сами чуть слышно шепчут:
— Акулинушка свет, лебедушка моя нежная…
Только отпировали у князя галицкого отъезд князя Ивана можайского, как опять пир, опять угощает Шемяка ненасытного Бегича, но теперь уж на прощанье. Знает татарин толк и в питье и в еде и чужой стол да чужих поваров уважает. Видя скупость и жадность посла, подарил Шемяка ему кафтан бархатный, серебром шитый, да кубок серебряный, а царю послал шубу на соболях, золотой парчой крытую, да золотую чарку, а царевичам — кубки золоченого серебра с камнями самоцветными.
Разорился совсем князь, а у Бегича под усами подстриженными губы от улыбки скривились — все мало ему, змею подколодному.
— Знаешь, княже, — говорит он учтиво, — что Василий-то Василич сотнику Ачисану золоченый кубок с каменьями да чарку золоченую подарил.
Хану Мангутеку — перстень с дорогим яхонтом да золотой обруч с самоцветами, а царевичам — кубки и чарки золотые, а царю и того больше подарки готовит…
— Буду на московском столе, озолочу всех! Земли и вотчины раздам на кормление татарам. Пусть царь убьет князя Василья, а мы Москву захватим, и всю казну его возьмем, и все именье у княгинь его и у бояр…
— А пошто ты время ведешь, нейдешь скорей на Москву?
— Чернь там да купцы, а теперь и бояре купно все Москву обороняют.
Град укрепили зело против вас. Ни вам, ни мне града того силой не взять.
Пусть царь казнит смертью великого князя, а яз проведаю, где семья его хоронится, велю сыновей его убить. Тогда не будет у Москвы своих князей, тогда Москва меня примет, — одного яз с ними роду-племени. Димитрию Донскому внук, как и Василий. А пока жив Василий-то и дети его, Москву не взять!
— Сие и царь говорил, а потому велел тобе: собери удельных, сговорись с великими князьями тверским и рязанским…
— Князья-то удельные тоже захотят от великого князя оторвать, а тверской да рязанской и того боле.
— Ну и давай, слабей их не будешь, а сильней, чем теперь, станешь.
Нам же токмо Нижний Новгород надобен…
— Попы-то все за Василия.
— А ты и попов купи. Обещай льготы, земли, деревни, угодья лесные и рыбные…
Шемяка порывисто схватил большую чарку с двойной водкой и враз осушил. Крякнул и с трудом вымолвил:
— Попробую…
На том беседа и окончилась, начались прощанья — прощальные и подорожные здравицы. Проводили гостя с почетом и, кроме всех подарков, дали на дорогу подорожников разных из снеди, а вместо хлеба — курников да лепешек сдобных, чтобы в пути не черствели.
Добрынский повел гостя в его покои, чтобы успел тот отдохнуть там перед отъездом. Остался с Шемякой только его дьяк Федор Александрович.
— Иван-то Андреич тоже собе на уме, — сказал вслух думы свои Димитрий Юрьевич.
— Истинно, — горячо отозвался Дубенский, — истинно, государь. Чаю, можайский улучил время, перешепнулся с Бегичем-то. Ишь, татарин все разделил и, кому что давать, указывает! Да не бойся их. Слышали и мы, как дубровушка шумит.
— Сразу догадался яз, что сей губошлеп и тут лисьим хвостом завертел, да смолчал, — добавил Шемяка.
— Сие и лучше, государь. В наших делах слово — серебро, а молчанье — золото.
— Яз и Добрынскому, Федор Лександрыч, меньше чем в половину верю. У Василия он служил, перешел к можайскому, а теперь вот у меня. А завтра кому служить будет?..