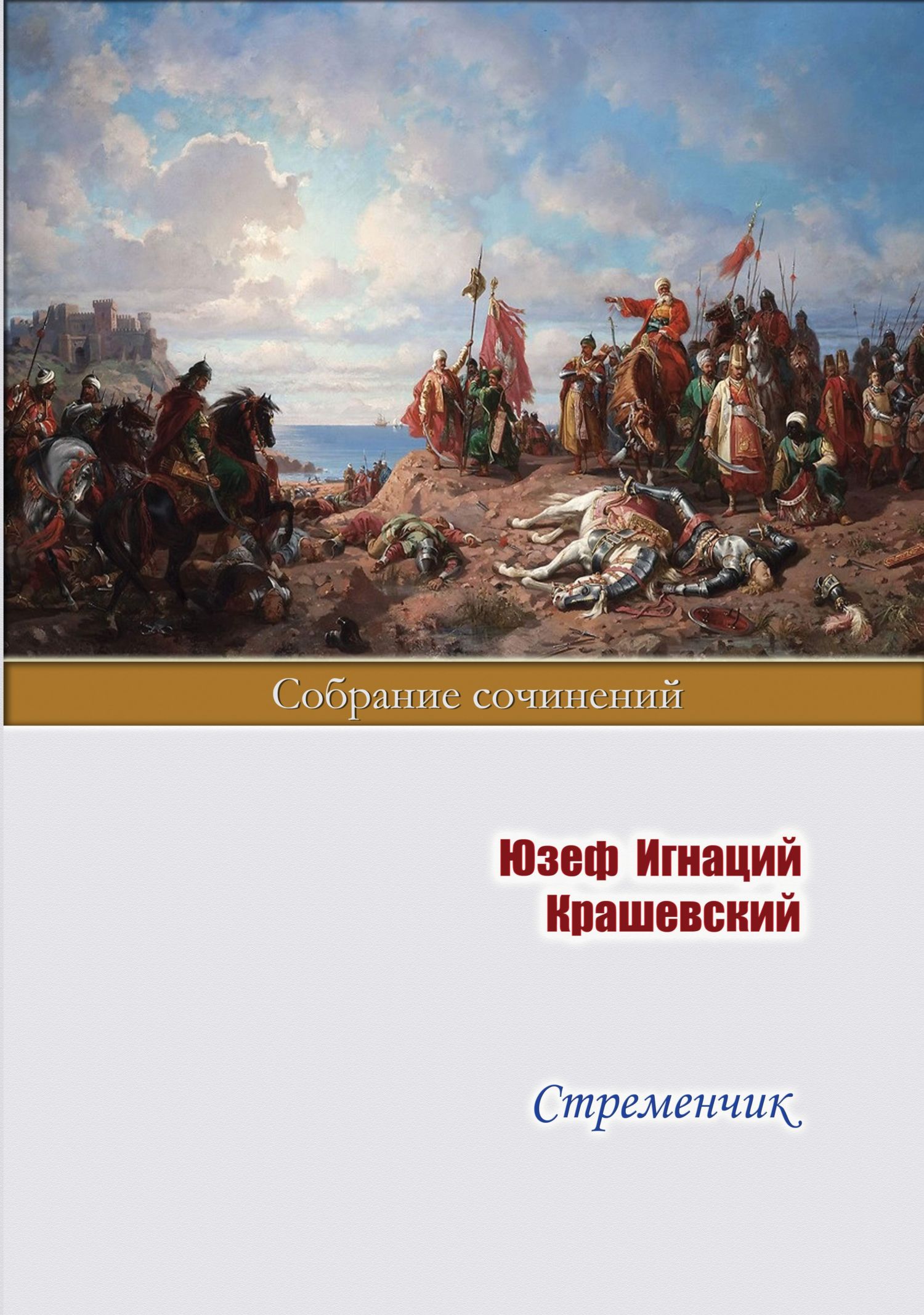Спустя пять лет после этого мнимого побега Гжеся в постоялом дворе под Краковом, который назывался Подрубом, на крыльце отдыхал молодой путник, покрытая пылью одежда которого, вспотевшее лицо, грязные и побелевшие от пыли башмаки говорили о долгом путешествии.
Он как раз снял большой узелок с плеч и положил его подле себя на пол, разглядывая околицы. Делая вывод из одежды, путник казался иностранцем. Он был одет так, как в это время ходили в Германии, неизысканно, но чисто. Одно то, что пешим проделал путешествие, доказывало, что, должно быть, был небогатым. Одежда из грубой ткани и невзрачная доказывала это предположение. Однако же лицо и фигура путника до некоторой степени доказывали обратное; лицо имел красивое, черты благородные, а выражение их, энергичное и гордое, не согласовывалось с посеревшим кубраком. Он смело оглядывался вокруг, а уста его стягивались дивной улыбкой.
Постоялый двор предместья был подобен всем гостиницам этого рода, куда сбегается сброд, бродяги, нищие и то, что в или городе показаться не смеет, или тут ищет лёгкого заработка.
Перед вьехой сидел на земле слепой старец с вытянутой рукой и белыми глазами, поднятыми вверх, хриплым голосом напевая какую-то песню. Подле него дремал маленький мальчик, скрюченный и сгорбленный от усталости.
Конюхи осматривали худых коней, наверное, украденных где-нибудь с пастбища, которых им оборванцы навязали за бесценок.
Из избы был слышен резкий гомон пьяных и крикливые песни. В сенях, взявшись за бока, немолодая женщина с сильно покрасневшими щеками переминалась с ноги на ногу, точно вызывала на танцы.
На минуту останавливались крестьянские телеги и, не высаживаясь, кметы, просили у хозяина пива.
Хозяин, человек высокого роста, страшно заросший, с чёрными глазами, которые, глядя, кололи как ножи, выбегал всё чаще, наклоняясь в низких дверях, то с деревянным кубком, то жестяной меркой, вынося напиток и ругая тех, что за ним с телег сойти не хотели.
В рубашке, фартуке, с босыми ногами, в рваных башмаках, грязный, корчмар был неизменно деятелен. От его глаз ничего не ускользнуло, а все, что задерживались под его вьехой, казалось, были ему знакомы. Обращался к ним доверительно по имени, наскоро давал советы конюхам, угрожал продавцам клячей, смеялся над пьяными, а не забывал получать динары и высыпать их в кожаный кошелёк, который висел у его пояса.
Был это славный Дзегель, человек, которого за раны и синяки выгнали из города, известный непоседа. Приятели и родственники его выбили ему то, что, хотя в городе показываться не мог, тут же рядом с ним, однако, он держал постоялый двор, на что смотрели сквозь пальцы.
Дзегель уже несколько раз бросил взгляд на путника, который отдыхал на крыльце и ничего от него не требовал.
Он думал, что в конце концов он догадается, сев под крышу, заплатить за гостиницу, напиток или еду.
По правде говоря, последнее у Дзегеля получить было трудно, потому что тут люди больше пили, чем ели, но хлеб, сыр и молоко были в каморке.
Казалось, путник вовсе не видит хозяина, или не обращает на него внимания. Дзегель собирался уже уйти, состроив гримасу, когда в эту минуту из города прискакал всадник, усатый юноша, с мечиком у пояса, выглядящий городским или шляхетским слугой.
Он остановил перед вьехой коня, отер пот с лицо и, нагинаясь, крикнул:
– Дзегель! Пива! Человек в такое пекло бочку бы целую высушил, если бы ему её налили.
Услышав этот голос, путник, который смотрел в другую сторону, вздрогнул и стал внимательно присматриваться к прибывшему.
Тот также, заметив его, казался удивлённым, неуверенным, словно припоминал себе какое-то старое знакомство, немного подогнав вперёд коня, он приложил к лицу руку и начал что-то бормотать.
Путник между тем встал с лавки.
– Ей-Богу! – сказал он по-польски, хоть одежду имел немецкую. – Ведь Дрышек!
Тот, услышав своё имя, уже слезал с клячи.
– Гжесь Стременчик! – крикнул он. – Жив, значит, а мы тебя тут уже похоронили.
Подали друг другу руку.
– Хотя в последнее время мы не были приятелями, – начал Дрышек, – потому что ты нас всех своей учёностью раздражал, мне приятно, что вижу тебя живым! Где же ты бывал? Пять лет назад…
– Пять лет, которые прошли у меня как пять дней, – рассмеялся Гжесь. – Где бывал, слишком долго было бы рассказывать. Скорее ты, по-видимому, расскажешь мне, как со школьной скамьи попал на коня и припоясал меч. Тебе ведь бакалавром или сениором быть хотелось.
Дрышек сделал гримасу и махнул в воздухе рукой. Поскольку Дзегель подавал ему пива, прежде чем собрался ответить, он опорожнил одним духом целый кубок; вытер рукавом усы, бросил на подставленную ладонь грошик и только тогда обратился к Гжесю.
– Ну да, правда, – сказал он, – мне хотелось быть бакалавром, но наука в голову не лезла. Наконец у меня высыпали усы и начал чувствовать волю Божью, а quadrivium не мог преодолеть. Тем временем мне попалась дочка богатого солтыса, девка как лань… я предпочёл её ciziojany!! Кому что предназначено, не минует. Хозяйничаю при отчиме и спорю с ним.
Он пожимал плечами и смеялся.
– Теперь, как на бумагу смотрю, – добавил он, – мурашки по мне бегают, а как вспомню школу, или она мне приснится, тогда я весь день злой и кислый. А ты? С чем вернулся?
– Я? – ответил Гжесь, показывая узелок, лежащий под крышей. – Я везу первого, может быть, Вергилия в Краков.
– Что это за чёрт, этот Верги… ний? – отпарировал Дрышек.
Гжесь рассмеялся.
– Я предпочитаю его твоей солтысовне, – сказал он весело. – В течение пят лет я учился и учил, бродя. Я пошёл сперва во Вроцлав, где пива, правда, было предостаточно, но учителей не хватало, потом в Лейпциг. Был я и в Магдебурге, и в Норимберге и дальше по Рейну прямо по целой Германии…
А что это за особенный свет!! Было на что смотреть и чему учиться.
– Ну, и саквы, полные мудрости, ты принёс с собой, – добавил насмешливо Дрышек. – А грошей много?
– Почти столько же, – отозвался, пожимая равнодушно плечами, Гжесь, – сколько тогда, когда вы меня идущего из Санока встретили.
Дрышек сделал презрительную гримасу.
– Стоило ходить так далеко! – забормотал он. – Бедность ты имел и в Кракове.
– Но того ума, что я приобрёл среди людей, не имел, – сказал Гжесь.
– И что же с ним будешь делать? – вставил насмешливо Дрышек, оглядываясь на своего коня. – Небось, на клеху метишь? Ну, тогда было бы ещё полбеды, но и те паны коллегиаты наши, профессора и доктора, хоть капелланы и мудрые люди, хлеба много не