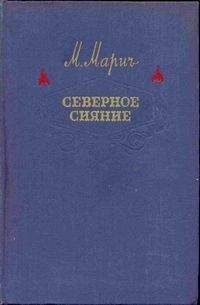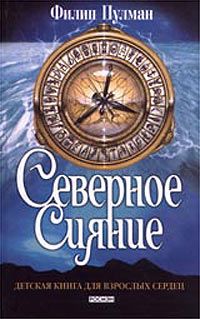Из писем от родных и друзей, приходивших в Усть-Куду, Оёк, Селенгинск, Петровский завод, Ялуторовск, Урик и многие медвежьи углы Западной и Восточной Сибири, из переправляемой декабристам всяческими хитроумными оказиями «недозволенной» литературы, они видели пробуждение великого русского народа, видели «разбуженную душу» нового поколения: все чаще и чаще вспыхивали крестьянские бунты то на Кавказе, то в Ставрополье, то на Смоленщине, Витебщине, в губерниях Саратовской, Новгородской, Рязанской, Тульской…
Бунтовали, добиваясь облегчения своей горькой участи, московские бумагопрядилыцики, тульские полотнянщики, вознесенские ткачи…
Когда до отдаленных окраин и глухих поселений Сибири донеслись раскаты военной грозы — Крымской кампании, декабристы, в прошлом участники войн против Наполеона, всем сердцем, всеми помыслами были на далеких полях сражений.
Каждая победа русского оружия воспринималась ими, как большое счастье. Каждая неудача — как глубокое горе.
Николай Бестужев в самом начале войны говорил с волнением и тревогой:
— Не знаю, удастся ли нам справиться с французами и англичанами вместе, но крепко бы хотелось, чтоб наши поколотили этих вероломных островитян за их коварную политику во всех частях света… Надобно скорее занимать Сахалин и ближайшие к нему берега… Мы живем в интересное время. Сколько совершилось событий в эти тридцать лет, что мы сошли со сцены света, и сколько еще совершится до нашей смерти!
Сергей Григорьевич Волконский, которому шел уже шестьдесят четвертый год, заготовил прошение на «высочайшее имя» о разрешении отправиться на театр военных действий, хотя бы рядовым.
Никакие уговоры товарищей и родных отказаться от этого намерения не помогали. И только когда Марья Николаевна напомнила мужу, впервые за долголетнее изгнание, о своей жертве и просила принести теперь жертву ей и детям, Волконский скрепя сердце согласился остаться.
Когда события в Крыму приняли трагический характер, Николай Бестужев, будучи при смерти, повторял еле слышно уже остывающими губами:
— Севастополь… Что наш Севастополь? — и тяжелые слезы медленно текли из-под его опущенных век.
Изгнанники не сомневались все же в конечном торжестве русского оружия, которое в свое время низвергло Наполеона.
После смерти брата Михаил Бестужев испросил разрешение отправиться на Амур, откуда писал в Россию одному из своих старых друзей:
«…Даю себе непременный зарок: посадить по всему течению Амура, на каждом нашем ночлеге, по нескольку семечек севастопольских акаций… К ним присоединю косточки одной из лучших родов владимирской вишни, и когда со временем эта великолепная амурская аллея разрастется, то грядущее поколение юных моряков, отправляясь Амуром служить на Тихий океан, будет отдыхать под их сенью, составляя планы будущей жизни, — незабвенная слава погибших под Севастополем навеет на их душу благородную решимость подражанья таким высоким образцам…»
Еще не утихли отголоски боев у черноморских берегов, когда сын Волконских — Михаил, участник экспедиции на Амур, сообщил родителям о встречах русских китоловных судов в Охотском море с английским флотом…
В 1855 году умер Николай I.
Вступление на трон нового царя полагалось ознаменовывать торжествами и «милостями».
Новый шеф жандармов нового царя Александра II — Долгоруков вызвал к себе сына декабриста Волконского — Михаила Сергеевича, приехавшего в это время в Москву с докладом об Амурской экспедиции.
— Государь император, — напыщенно заговорил Долгоруков, — узнав, что вы в Москве, повелел передать вам манифест о помиловании декабристов с тем, чтобы вы немедленно отвезли его вашему отцу и его товарищам. — И он протянул молодому Волконскому пакет, украшенный сургучными печатями с двуглавым орлом.
В тот же вечер Михаил Волконский выехал в Иркутск по той же самой дороге, по которой двадцать девять лет тому назад его мать, Марья Николаевна Волконская, держала путь из Москвы в Нерчинск.
Свой шеститысячеверстный путь сын совершил тоже в необычайно короткое время — всего за пятнадцать дней. Последние версты он уже не мог ни лежать, ни сидеть, он стоял в кибитке на коленях.
По пути его следования, как когда-то по пути следования декабристов, на дорогу выходил народ — крестьяне и ссыльные. Михаил приказывал кучерам остановиться, поспешно читал людям манифест и, сопровождаемый добрыми пожеланиями, скакал дальше.
Когда он примчался, наконец, к Ангаре, дул сильный ветер. Ночное небо было хмуро, тяжелые тучи громоздились одна на другую. Кругом стояла непроглядная темь. Река бушевала. С трудом удалось Михаилу Сергеевичу уговорить перевозчика переправить его на другой берег.
Сильное течение уносило баркас в сторону от кое-где светящихся в ночной темноте огней Иркутска.
Едва только баркас причалил к берегу, Волконский во весь дух побежал в город…
По дощатым, скользким от оттепели тротуарам, спотыкаясь и падая, добрался он, наконец, до отцовского дома.
Порывисто дернул звонок.
— Кто там? — послышался удивленный голос отца.
— Открывай скорей — я привез помилование! — запыхавшись, едва смог произнести сын.
Через мгновение он был в объятиях отца. Оба рыдали…
Не дожидаясь утра, послали за всеми, кто в это время уже жил в Иркутске и его окрестностях.
В эту ночь никто не спал. Все заставляли Михаила рассказывать о том, что творится в России, в Москве…
И он рассказывал о студенческих волнениях в Харькове, Петербурге, Киеве, Казани и Варшаве, о том, как студенты прекращают посещение лекций, требуя возвращения на кафедры уволенных за прогрессивные убеждения профессоров, о возникающих повсюду конспиративных кружках, о том, что в некоторых городах бастуют рабочие, требуя повышения заработной платы, что именно такая забастовка была и в Перми, когда он ее проезжал, что крестьянские бунты усилились до такой степени, что в обеих столицах только и разговору о необходимости отмены крепостного права, и уже создаются многочисленные комиссии, которые должны разработать предстоящие либеральные реформы…
Его слушали, затаив дыхание.
Уже под утро Михаил Бестужев, докурив свою трубку, с грустью произнес:
— Миловать-то новому Романову пришлось лишь немногих из тех, кого «незабвенный» его родитель отправил на каторгу. Ведь из ста двадцати одного нас осталось… девятнадцать! Бедный Давыдов совсем немного не дотянул, чтобы быть двадцатым…
Наступило долгое молчание.
— Настоящее положение нашего отечества, — вновь заговорил Бестужев, — напоминает интереснейшее явление, которое наблюдал мой покойный брат Николай в Баренцевом море. Там бывает так: вверху дует западный ветер, который гонит судно на восток. Внизу гуляет ветер с востока и такой силы, что мачты клонятся к самым волнам, а морская гладь остается с виду неподвижной… Наш «незабвенный» мучитель был убежден в спокойствии и незыблемости его «фасадной» империи… А между тем…
— А между тем, — как бы докончил за него старик Волконский, — не прав ли был Одоевский, когда в ответ на «Послание» к нам Пушкина писал:
Наш скорбный труд не пропадет:
Из искры возгорится пламя…
Светало. Над Ангарой клубился туман. Солнце еще не всходило, но разорванные ветром тучи уже были охвачены пламенем занимающейся зари.
О господи! (франц.)
Да, сударь (франц).
Самодовольство (франц ).
Теперь выпьем. (лат.)
Пламя гения (франц).
Название вина (франц.).
Честное слово (франц.).
Кстати (франц.).
Кто скажет, что это не мой сын? (франц.)
Контрреволюционная (франц.).
«Из Анакреона» (англ.).
Бездельник (итал.).
Войдите (франц.).
Ах, прошлое время назад не вернуть! (тал.)
Масса ничто. Она будет лишь тем, чего захотят выдающиеся личности, которые — всё (франц.)
Следовательно (лат.).
Здравствуй, мой медведь (франц.).
Ну, как живем? (франц.)
Faire la cour — ухаживать (франц.).
Головорезы (франц.).
Удар, которым добивают смертельно раненного (франц.).
Деспотизма справедливого и просвещенного (франц.).