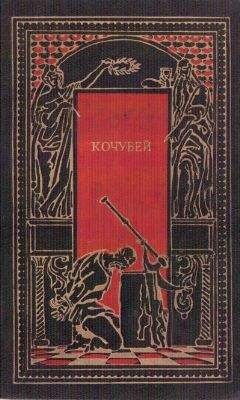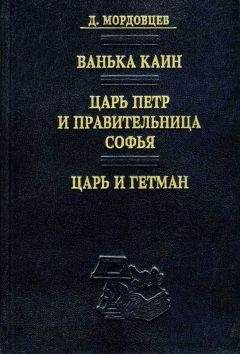В этот же день Любовь Фёдоровна распорядилась устроить всё к венцу дочери.
Вечером дружки собрались к Мотрёньке, пели печальные и радостные песни, а на другой день, к удивлению всех, Мотрёнька стояла рядом с Чуйкевичем, и отец Игнатий с отцом Петром перевенчали их. Загремели в доме Кочубея скрипки, басы, литавры, бубны и цимбалы; старики и молодые танцевали казачка, метелицы, журавля; пели, и веселие шумною рекою лилось в дом... а сыч по-прежнему кричал в саду.
Любовь Фёдоровна ставила в церкви пред образом Божией Матери толстую и высокую свечу и думала:
— Благодарю Тебя, Владычица Небесная, за неизречённыя милости Твои, благодарю, Царице души моей, что сподобила меня выдать Мотрёньку замуж, — и вслед за молитвою, лукавый помысл разыгрался во всю пустоту тщеславной души. Любовь Фёдоровна мечтала: теперь не помешает она мне в давно затеянном деле, не станет среди дороги, не опередит меня. Гетман злится на нас, пусть злится, потерплю с месяц, а там сумею, что сделать, не долго остаётся держать тебе, изменник, булаву! Отдадут её Василию, буду и я гетманшей, тогда даю обещание — икону Матери Божией обложить серебряною шатою, на Спасителя — позолоченный венец сделаю и куплю ко всем иконам ставники. Гетман теперь нас и знать уже не хочет: как же, вишь, против согласия его выдали дочку! Жаль, что не отдали её за какого-нибудь нечестивого ляха, друга гетманского, — куда ж как хорошо! Но вот моё горе, Чуйкевич каждый день у гетмана, проклятый Мазепа приманил его к себе... ну, ничего, всё ничего, я своё выполню.
Поставила свечу, перекрестилась, стала на своём месте, слушает молитвы, крестится и всё не перестаёт обдумывать, как бы удобнее устроить погибель гетману.
Мазепа действительно негодовал на Кочубея за скорую свадьбу дочери, на которой он не был; честолюбие старика возгорелось, и он принял сухо Василия Леонтиевича, приехавшего к нему чрез несколько дней после свадьбы.
Чуйкевич, как и отец его, в прежнее время не любил гетмана; любя же безумно Мотрёньку, он повиновался её желаниям, исполнял все её требования, и поэтому-то, на другой день, к досаде Любови Фёдоровны, Чуйкевич с Мотрёнькою поехали к Мазепе. Радость, что видит Мотрёньку; печаль, что она выдана против его желания, так слились в сердце старика, что нельзя было постичь состояние его духа; если, чему именно радовался он вслух, так это собственно тому, что Мотрёнька теперь избегнет истязаний злой матери.
Поблагословивши молодых, гетман одарил их деньгами и богатыми вещами и взял с Чуйкевича честное казачье слово, что часто будет заезжать к нему с Мотрёнькою. По отъезде их Мазепа несколько дней был чрезвычайно грустен и задумчив.
Недели две или три после свадьбы Любовь Фёдоровна сидела вдвоём с женою полтавского полковника Искры — чрезвычайно красивой собою малороссиянки; будучи оставлена Мазепой, некогда великим другом её, она сделалась его отъявленным врагом. Об чём-то горячо разговаривали; дверь комнаты, для предосторожности от нежданного гостя, была заперта.
— Вот, сестрица моя милая, я тебе сейчас покажу, прочитай, сделай милость, я с нетерпением ждала тебя и никому не давала читать; а Василий ни за что не сказал бы мне, что пишет гетман; да я, признаться тебе, просто украла это письмо у него, он и не знает и не догадывается; сказано, беспечная голова!..
— Ну, добре, сестрице.
Искрина развернула письмо, посмотрела на подпись и громко её прочла:
— Иван Мазепа... так сестрица, гетман писал письмо!
— Ну, что ж пишет, читай!
— А вот, слушай!
Искрина прочла письмо Мазепы, писанное в ответ на письмо Кочубея, в котором Василий Леонтиевич упрекал гетмана касательно Мотрёньки.
Любовь Фёдоровна, услышав мнение о ней Мазепы, что она гордая, заносчивая, злобная, что она одна причиной печали и несчастия Кочубея, так рассердилась и пришла в такое бешенство, что не помнила слов своих, не знала, что делала; она стала перед образом, перекрестилась и с криком произнесла:
— Господи Боже, и ты, Пречистая Матерь Божия, накажи изверга дьявола Мазепу, да постигнуть его со всем его домом все казни египецкия! — и потом подошла к столу, ударила кулаком по нему и закричала громче прежнего:
— Докажу тебе, сестрица, докажу, что проклятый гетман недолго будет гетманствовать, вспомнишь ты через год мои слова и тогда скажешь, правду я тебе говорила!
Искрина поджигала Кочубееву.
После выезда Искриной Любовь Фёдоровна с большим нетерпением ожидала возвращения Василия Леонтиевича, который был в Батурине; к вечеру он возвратился.
— Что слышал, Василий, про гетмана, какой он думки? Мне Искрина говорила, Мазепа непременно хочет, чтобы гетманщина была за поляками!
— Слышал и я это, все говорят так, да кто знает, что думает сам гетман; может быть, одни слухи. Правду сказать, не нашим неразумным головам понять его: он человек великаго и хитраго разума.
— Слухи! У тебя всё одни слухи... кому ж он говорил, тебе или кому другому, когда ты ездил к нему перед, свадьбою Мотрёньки, чтобы ты обождал выдавать её замуж, что будем за поляками, так для неё сыщется жених из знатных шляхтичей!
— Так, Любонько, так; да послушай меня, что ещё я от него слышал!
— А что?
— Месяца три тому назад, когда я был у него один, он позвал меня к себе в спальню, запер дверь, да и говорит:
— Знаешь, куме, мать Вишневецких, княгиня Дульская, когда мы будем за поляками, сделает меня князем Черниговским; а казацкому войску даст великия вольности и выгоды; вот тогда-то, куме мой милый, роскошь и житье нам будет; это верно, — говорил гетман, — как Бог свят верно, Станислав близкий родственник Дульской.
— Когда ж это Дульская говорила ему?
— Когда Мазепа был в селе Дульской, в Белой Кринице, он тогда крестил с нею сына князя Януша Вишневецкаго.
— Вот какой гетман… а царь, Господи Боже твоя воля, как любит его царь!
— Да, Любонько, и за здоровье Дульской не раз уже пили мы венгерское за обедом у гетмана; пили и тогда, когда приехал к нему боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, и сказал, что Синицкий побил войска царския. Гетман, нет чтоб печалиться, так смеялся, да винцо попивал за здоровье Дульской, — всего бывало!
— Василий, милый мой Василий, послушай добраго слова моего, послушайся меня последний раз, и увидишь, когда в руках наших не будет гетманская булава!
— Что ж, Любонько, разве я когда-нибудь не слушал тебя!
— Да всё оно так, но послушай совета моего в этот раз... послушаешь?
— Послушаю.
— Пошлём донос царю на гетмана, пошлём тайно!
Василий Леонтиевич покачал головою и спросил:
— Как же это будет, что из этого выйдет?
— Что выйдет, Василий, выйдет то, что ты будешь гетманом, а я гетманшею!
— Нет, что-то не так, Любонько!
— Тебе всё не так — рассудишь ли ты что-нибудь своим разумом, голова твоя бедная!
— Да что ж мы донесём!
— Что донесём? Ты слушай меня!..
Кочубей вздохнул.
— Тяжко, когда в уме на полушку нить разума!.. Не вздыхай, а слушай меня.
Кочубей отвернулся от жены.
— Ты и слушать меня не хочешь?!..
— Не век же мне жить жиночим умом!
— Ах ты... жиночим умом не жить ему! Да где ж у тебя свой разум, когда не слушаешь, что я тебе говорю!
Любовь Фёдоровна застучала об пол ногою и громко сказала.
— Ты слушай, что я приказываю тебе, а своего ничего не выдумывай, умник ты!..
— Да я, Любонько, слушаю тебя, Господь с тобою, откуда взяла ты, что я не слушаю тебя!
— Так и слушай, что я говорю, тебе: на гетмана пошлём донос дарю, гетмана в кандалы, а тебе булаву.
— Добро, Любонько.
— То-то, что добре! Разве мы не правду донесём дарю, когда скажем, что Мазепа снюхался с королём Лещинским и хочет отдать ему гетманщину; что Заленской, проклятый иезуит, тайно привозит к нему письма из Польши; что когда в Батурине проезжал Александр Васильевич Кикин, Мазепа думал, что едет сам царь, так чтоб убить царя — поставил в тайных местах вокруг Бахмача триста сердюков с заряженными рушницами, отдав приказание им по знаку стрелять в того, на кого он покажет. Ого-го, я всё знаю, Василий, и ты того не знаешь, что я знаю; не бойсь, помолись Богу, да и за дело: ты не простой казак, гетман не повесит, в тюрьму не посадит тебя... нечего страшиться, а донесём о его предательских делах — и будешь гетманствовать!
— Добре, Любонько, я на тебя надеюсь, на тебя полагаюсь, ты всё сделаешь, как сама задумала такое великое дело... сама решай; у тебя, правду сказать, голова умная, а я человек слабый: сам знаю, что ж, Богу так угодно было… ты у меня розумная пани.