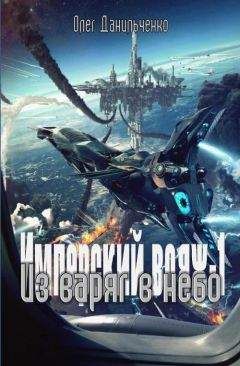— Видели бандитов? — спросил Буланцов.
— Как вас.
— И говорили с ними?
— Как с вами.
— Что они говорили? — спросил Мусатов.
— Что идут в пущу и что счастье мое лекарское. Иначе убили б.
— Сколько у них жертв?
— Трое убитых, с десяток раненых. — Алесь умышленно прибавил к лесным людям мужиков из деревень Ходанского.
— Сколько их было? — спросил Буланцов.
— Это что, допрос?
— А вы что же думали, уважаемый Александр Георгиевич? — почти ласково сказал Мусатов.
— В таком случае я не буду отвечать.
— Будете, будете, — преувеличенно любезно сказал жандарм.
Он повернулся к Буланцову:
— Они, по-видимому, действительно ушли в пущу еще на рассвете. Ничего. Идите возьмите из хат мужиков, кто попадет под руку.
— Не ходите, Буланцов, — сказал Алесь. — Не отдавайте таких приказов, капитан.
— Это почему же? — спросил Мусатов.
— Здесь есть свидетель.
— А этот свидетель скомпрометирован, — сказал капитан.
— Напрасно. Есть мой эконом, который привез мне весть про бунт. Он подтвердит: до того я ничего не знал. Есть мужики, которые скажут: меня не было во время бунта. Есть солдаты, которых я лечил, потому что это долг каждого, кто знает, как сделать перевязку.
— Не было его в бунте, паночек, — простонал белявый солдат у печи.
— Молчи! — сказал Мусатов и, обернувшись к Алесю, пристально глядя ему в глаза, начал говорить: — Появились вы — и у мятежной толпы изменилось настроение. Черт знает, за кого они вас приняли…
— С тем же самым успехом они могли бы принять ворону за архангела Гавриила, что слетает с небес, — иронически улыбнулся Алесь.
— Зачем вас понесло сюда?
— Я же сказал — лечить. Я не хотел крови. И вы не тронете невинных, Мусатов, только потому, что этого требует ваша карьера. Я, наконец, прискакал потому, что должен быть беспристрастный свидетель, которому поверят больше, чем хлопу, и больше, чем вам. Я — свидетель.
Мусатов оглянулся и перешел на французский язык:
— А вы… подумали… что этот свидетель мог быть убит… во время бунта… случайным залпом?… Самым случайным из случайных залпов!
— Ваше произношение оставляет желать лучшего, — сказал Алесь. — А солдаты, капитан?
Мусатов дрожал. Казалось, настал час, теперь и этого можно было припугнуть арестом или смертью. Он чувствовал, что все в нем звенит.
— Никто не знает мотивов вашего приезда сюда, — на том же самом плохом французском сказал он. — Вы своим появлением настроили людей на атаку. И я сейчас же пошлю донесение об этом вице-губернатору, потому что Беклемишев болен… Пошлю тому самому вашему Ис-ленье-ву, который кричал на меня за расправу в Пивощах.
Рысьи глаза сузились, губы дрожали.
— Напрасно будете стараться, — сказал Алесь. — Донесение уже отправлено. Я отправил его перед отъездом сюда и объяснил, почему еду. Полагаю, скоро последует ответ.
Мусатов невольно хватанул ртом воздух.
— Вот так, — невинно смотрел на него Алесь. — Каждый человек, каждый дворянин должен всеми силами стараться остановить мятеж. И я объяснил это вице-губернатору на случай… гм… на всякий случай.
Буланцов ничего не понимал из разговора, но чутьем сыщика понял: шефу нанесен страшный удар. И еще отметил про себя: шеф теперь никогда не простит этому человеку.
Алесь поднялся.
— Ну вот, — сказал он, — а теперь…
— Я надеюсь, — пролепетал Мусатов, — вы поняли, что это была шутка?…
— Я и не сомневался в этом. Разве такие вещи говорятся всерьез между цивилизованными людьми? Конечно, шутка.
Капитан сидел бледный. Глаза Алеся улыбались.
— Хватит шутить, капитан. Я думаю, вы отмените этот приказ и найдете настоящих преступников?
И впервые за весь разговор повысил голос:
— И если вы тронете еще хоть одного из них, вас повезут отсюда под рогожей в Могилев или под кошмой в острог. Поняли это вы, пан штуцер, пан пуля, пан свинец?!
Мусатов сидел, глядя в стол.
— Хорошо, — сказал он наконец, — я отменяю приказ. Буланцов, погоню за Корчаком!
* * *
Через три часа прибыл от Исленьева едва живой гонец. Он привез приказ: «Немедленно отпустить невиновных, искать Корчака с бандой, на время рассмотрения дела князя Загорского под домашний арест».
Алесь улыбнулся. Исленьев заботился, чтоб Загорскому не причинили под горячую руку вреда. И ничего, что приказ вице-губернатора немного возвысил в собственных глазах жандармского капитана, врага, от которого в будущем нельзя будет ожидать милости, если его только не убьют Корчак или Черный Война.
Пусть себе возвышается, пусть думает, что последнее слово останется за ним. Алесь знал, почему так поступил Исленьев, знает он и то, что в какой-то мере он достиг цели, не дал пролиться лишней крови и спас невинных.
Лекарь Ярославского полка Зайцев подошел поблагодарить его за перевязки, сказав, что все сделано достаточно квалифицированно. Алесь покосился на старого капитана и ответил, что ему приятна похвала образованного и опытного человека, и пригласил Зайцева бывать у себя.
Старик покраснел. Покраснел и Мусатов, только по другой причине. И не выдержал. Сопровождая Алеся к саням под любопытными и доброжелательными взглядами солдат, начал с притворным сочувствием журить его:
— Здесь черт знает что творится. Попечение нужно, а то все вокруг голодными глазами глядят. Одних иудеев сколько на страну, и все они немецкие шпионы. А тут еще свои нигилисты, поповские да мужицкие семена. Народ науськивают! Эх, пан Загорский, такое положение, а вы в эти глупости по молодости лет вмешиваетесь! — И ласково, заглядывая в глаза: — Вам что нужно? Вы в первых российских помещиках по богатству. Разве у вас не воля? Да вы во сто крат свободнее, чем в их холуйских фаланстерах. [178]
«Ничего у меня нет, — думал Алесь. — Ничего из того, что мне нужно. А нужно мне все. И прежде всего воля всем народам и моей родине. Что ты знаешь об этом, грязная свинья? И рассуждения твои только и можно назвать le delire du despotisme, [179] как сказал бы старик Исленьев. И сам ты быдло, лакейская душа».
Он сел в сани и закрыл глаза, чтоб не смотреть на караульных солдат. Со вздохом облегчения закрыл глаза и вытянул ноги. Два солдата поскакали за ним, чтоб проводить в деревню.
За санями на длинном поводу бежал Урга. Он не привык к такому, фыркал и мотал головой.
Растаявший мартовский снег, вороны, придавленная ожиданием деревня, резкие голоса солдат.
На мгновение ему стало больно. Он вспомнил слова Корчака и подумал, что за презрение предков к народу, за презрение образованных к народу как бы не пришлось платить даже тем детям, которые любят этот народ. Но тут же решил, что постарается, чтоб Корчак, если сведет их судьба, изменил о нем мнение. Он видел в этом мужике великую чистоту ненависти. Как нужны им люди, которые умеют ненавидеть! Хороший мужик! И как жаль, что нельзя всего раздать, чтоб поверили тебе! Деньги нужны для дела. Ничего, с Корчаком они еще встретятся. Он, Алесь, сделает все, чтоб тот стал ему товарищем.
У них одно дело.
Ничего. Ничего. Все еще будет хорошо, чисто, смело. И люди на земле будут людьми.
Садилось багровое солнце, и тени на снегу сделались изумрудно-зелеными, чище морского зеленого луча, увидев который, говорят, нельзя ошибиться ни в любви, ни в ненависти.
И он теперь твердо знал, ч т о он любит и ч т о ненавидит, и откуда у него такая боль, и почему он никак не может успокоиться.
…Он открыл глаза. Ехали озерищенским берегом, почти над самым обрывом. И он вспомнил, как давно-давно, одиннадцать лет назад, здесь сидели под горячим солнцем маленькие дети.
Что тут было еще? Ага, груша.
Она держалась в тот год только силой собственных корней, укрепив ими для себя полукруглый форпост. В собственных руках держала жизнь.