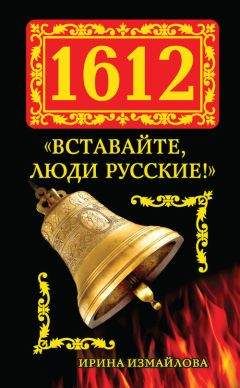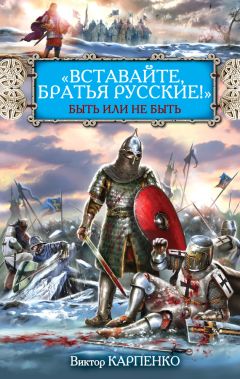Ознакомительная версия.
— Вот как! — уже с явным интересом проговорил Шнелль.
— Ну что же, я бы и не прочь. А сколько у вас платят?
— Кроме кормовых, жалование от пятнадцати до тридцати рублей, от выучки зависит да от того, в какие войска пойдешь. Тебе, с твоими умениями, думаю, тридцать положат.
— Богато! — воскликнул Хельмут. — И что же, князь на Москву идти собирается?
Михаил покачал головой.
— Просто так сейчас взять да пойти, проку мало будет. Ходили уж так. Надо и войско собрать надежное, и управу над войском наладить. Да не только над войском: надо, чтоб люди русские всем миром против ляхов собрались. А раз так, то перво-наперво надобно очистить окрестные земли от всяких врагов, чтоб в спину не ударили. Вон, опять людей в соблазн вводят, зовут теперь уж не королевичу Владиславу и не Сигизмунду окаянному, а малолетке, сыну тушинского вора Ивашке присягать! Православным государем народ соблазняют, чтоб опять же полякам продать Русь… Подлец атаман Заруцкий смутил казаков и захватывает города один за одним. Так что сначала с этим ворьем биться предстоит, а уж потом к Москве подступать.
— Грамотно, ничего не скажешь! — кивнул внимательно слушавший товарища немец. — А ты, Михайло, не боишься мне, иноземцу, коего со вчерашнего дня знаешь, все это говорить? А ну, как выдам?
— Не выдашь, — твердо глядя ему в глаза, произнес Михаил. — Я не вчера родился, Хельмут. Мне от роду двадцать семь годов, но на деле я раза в два старше: повидал много и перетерпел много. Людей понимать научился.
— Видал я, что ты перетерпел! — словно бы про себя раздумчиво проговорил Шнелль. — Видал, какая у тебя подмышками и под ребрами наука осталась…
— А, это! — Михаил вдруг рассмеялся. — Это — пустяки. По грехам моим. Куда страшнее бывало. Но ты мне не ответил — пойдешь служить князю Пожарскому?
Разговаривая, они миновали Москва-реку и шагали уже вдоль стен Китай-города, направляясь в сторону Яузы. Навстречу им попадались казачьи караулы, один раз встретились и несколько поляков, однако не заинтересовались утренними прохожими. Кроме военных, видны были только ремесленники, неспешно отпиравшие свои лавки, да ребятишки, игравшие в снежки, а в одном месте старательно лепившие снежную бабу, которую явно норовили вырядить поляком: на голову ей надели половинку ломаного берестяного туеска, придав ему вид магерки, а под шишковатым носом приделали длинные космы пакли, изображающие усы. Слепив чучело, мальчишки принялись яростно расстреливать его снежками, отпуская «ляху» самые нелестные прозвища.
Кто-то из детей заметил шагавшего мимо Хельмута и по все той же магерке (жупана и делии под шубой видно не было) узнал польского воина, но детское безошибочное чутье подсказало ему, что бояться нечего. Мальчуган даже помахал наемнику рукой, и тот, улыбнувшись, махнул в ответ.
— Отвечаю тебе, — произнес Шнелль, отвернувшись от снежной бабы и посмотрев в лицо Михайле. — Я пойду служить вашему князю. Он хорошо платит. И вообще, приятнее служить тому, кто хочет забрать свою землю, а не чужую.
Говоря так, он продолжал улыбаться, и Михаил впервые обратил внимание на то, какая хорошая у него улыбка: она была по-детски светлая, какая-то чистая и наивная, так что твердое лицо немца сразу сделалось куда моложе и мягче. И глаза сияли, удивленно и весело.
«Странно! — подумал Михаил. — Ведь всю жизнь человек на войне. Людей убил, верно, больше, чем у него волос в бровях… Да еще и потерял все, что потерять можно. А улыбается, как дитё малое! Чудной он…».
Они добрались до Яузы, где размещался еще один польский табор, который они так же старательно обошли прежде, чем перейти реку За Яузой открывалось зрелище менее безрадостное, чем являло собой Замоскворечье: здесь не так яростно гуляли пожары и не так безнаказанно бесчинствовали захватчики — в богатых теремах этой части города жили бояре и стрельцы, присягнувшие королевичу Владиславу и вполне преданные засевшим в Москве иноземцам, а потому их велено было не трогать. Правда, при прошлогоднем восстании бои кипели и здесь, и сюда перепуганные поляки тоже запустили «красного петуха», но огонь удалось быстро унять: ветер едва не погнал его прямо на польский табор, так что пехотинцы полковника Гонсевского в данном случае помогли жителям. Здесь были и торговые ряды, в которых нынче почти ничем не торговали, однако же народ по старой памяти сновал туда-сюда, и место это казалось достаточно людным.
Михаил подошел к какому-то парню, продававшему связками деревянные крашеные ложки, и о чем-то его спросил. Тот, не переставая пританцовывать и притопывать, чтобы не замерзать, махнул рукой куда-то в сторону и опять завел деланно бодрое:
— А вот, кому ложки? Ложки-крашенки для вашей кашеньки! Ложки покупай, похлебку хлебай! А вот, кому ложки?
— Мне что же, с тобой идти? — вновь приступил с расспросами Хельмут. — Ты, как я понимаю, в Москве по поручению князя Пожарского. Так, может, я тебе помешаю?
— Я как раз надеюсь, что поможешь! — откровенно ответил Михаил. — Считай, что ты уже на службе. И если согласен, могу вперед выдать часть жалованья.
— Ладно, — кивнул Хельмут. — Я мог бы и подождать, но возьму, чтоб ты не думал, будто я еще не решил и могу переметнуться. А куда мы идем сейчас?
Молодой человек посмотрел на товарища, видимо, испытывая последние сомнения, но ответил так же твердо:
— Идем к моей родне. Это уж близко.
Действительно, немного спустя они оказались перед обнесенным забором ладным теремом, и Михайло, выждав некоторое время и прислушавшись к царившей кругом тишине, решительно постучал в дощатые ворота. Из-под ворот тотчас вывернулся и окатил пришедших буйным лаем белый с черными пятнами пес, а за воротами послышался женский голос:
— Тихо, тихо, Барбоска! Кто там стучит-то?
— Свои, Марфа, отвори!
Одна из створок подалась назад, и в щели показалось веснушчатое женское лицо, выступающее из толстого темного платка.
— Ктой-то свои? — начала было грозным голосом Марфа, но вдруг осеклась и, шире распахнув створку, всплеснула руками:
— Ой, Матушка Пресвятая Богородица! Боярин! Михаил Борисович!
— Тихо ты! — одернул ее Михайло. — Впусти нас и ворота запри. Боярыня-то дома?
— В церковь ушли! — радостно зачастила Марфа, по всему видать, сенная девушка или ключница. — Чуть свет, как зазвонили. Думаю, вот-вот воротится. Звон к причастию уж был, так вот теперь, как опять колокола услышим, так ее и жди. А кто же это с тобой, свет наш, пожаловал?
Она поглядывала на Хельмута с некоторой опаской, но одновременно и с заметным интересом — красивый незнакомец явно ей понравился, а что он не поляк, Марфа, кажется, быстро смекнула.
— Друг это мой, — ответил Михайло, пересекая двор, вступая на крыльцо и приглашая наемника взойти следом.
— День, как знакомы, но думаю, что друг. Позавтракать на всех соберешь, или у вас со снедью совсем туго?
— Что ты, боярин, что ты! Туго, что греха таить, все хуже и хуже становится. Однакоже худо-бедно — а найдется, чем угостить. Входите, входите!
Дверь с крыльца вела в просторную горницу чистую и скромную, однако не бедную: в мелкий переплет единственного небольшого окна были вставлены стекла, а не бычий пузырь, оклады икон в большой божнице тускло блестели настоящим серебром, а на широком столе красовался пузатый латунный чугунок с липовым отваром. Он дымился и как видно, недавно вскипев.
Михаил, снявший шапку еще на улице, перекрестился, скинул тулуп на руки подбежавшей Марфе и не сел, а упал на покрытую овчиной скамью:
— С едой не спеши, мы хозяйку подождем.
— Да уж и ждать недолго. Слышь, звонят снова? Вот и служба закончилась. Обождите тут пока, а я в погреб спущусь — бруснички моченой достану, сала ломоток припасен, как знали — берегли, да с такой радости, небось, не грех и водочки. Вот только вчера делала!
Хельмут сел рядом с товарищем, тоже снял шубу (его магерка давно лежала на той же лавке) и вполголоса спросил:
— Кто ж у тебя тут живет? Тебе здесь рады, будто год не видали.
— Так оно и есть, — подтвердил молодой человек. — А терем этот дяди моего, материна брата. Кличут его Демьяном, он был стрелецкий сотник, да в битве с татарами ногу покалечил — почитай, почти отрубили. А сейчас…
Он не договорил, резко, всем телом повернулся к двери и медленно поднялся.
В дверях, овеянная легким морозным облачком, показалась женская фигура. Хельмут тоже посмотрел в ее сторону, и вдруг в нем что-то словно вспыхнуло. Что именно случилось, он так и не смог себе объяснить — это было совершенно необъяснимо…
Женщина, не высокая, но по особенному, по-русски статная, не вошла, а будто вплыла в горницу. Мороз окрасил светлым румянцем ее овальное, нежное лицо, обрамленное тонким шелковым платком, украшенное небольшой бархатной кикой с вышитым золотым узором. Глаза, как и подобает, опущенные, сразу показались Хельмуту огромными, хотя, возможно, они казались такими благодаря черноте и густоте ее ресниц. Брови тоже были черные и узкие, про такие обычно говорят «как нарисованные». Нос тонкий, но не маленький, с выразительной славянской горбинкой, губы полные, яркие, почти чувственные, а подбородок — сильный и волевой.
Ознакомительная версия.