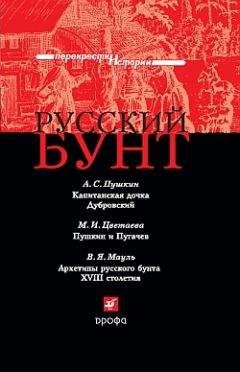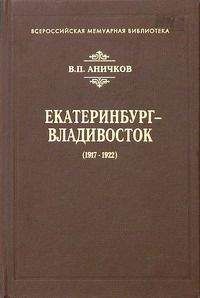Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:
– О чем, ваше благородие, изволил задуматься?
– Как не задуматься, – отвечал я ему. – Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.
– Что ж? – спросил Пугачев. – Страшно тебе?
Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.
– И ты прав, ей-богу прав! – сказал самозванец. – Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, – прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, – помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братия.
Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.
– Что говорят обо мне в Оренбурге? – спросил Пугачев, помолчав немного.
– Да говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.
Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.
– Да! – сказал он с веселым видом. – Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?
Хвастливость разбойника показалась мне забавна.
– Сам как ты думаешь? – сказал я ему, – управился ли бы ты с Фридериком?
– С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.
– А ты полагаешь идти на Москву?
Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:
– Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.
– То-то! – сказал я Пугачеву. – Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?
Пугачев горько усмехнулся.
– Нет, – отвечал он, – поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.
– А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!
– Слушай, – сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. – Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсе только тридцать три года? – Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?
– Затейлива, – отвечал я ему. – Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину.
Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней – и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.
Как у нашей у яблоньки
Ни верхушки нет, ни отросточек;
Как у нашей у княгинюшки
Ни отца нету, ни матери.
Снарядить-то ее некому,
Благословить-то ее некому.
Свадебная песня
Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.
Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился. Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивостию. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:
– Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.
Швабрин побледнел как мертвый.
– Государь, – сказал он дрожащим голосом... – Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.
– Веди ж меня к ней, – сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.
Швабрин остановился на лестнице.
– Государь! – сказал он. – Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.
Я затрепетал.
– Так ты женат! – сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.
– Тише! – прервал меня Пугачев. – Это мое дело. А ты, – продолжал он, обращаясь к Швабрину, – не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.
У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:
– Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.
– Отворяй! – сказал Пугачев.
Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.
Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало – не помню.
Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:
– Хорош у тебя лазарет! – Потом, подошед к Марье Ивановне: – Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?
– Мой муж! – повторила она. – Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.
Пугачев взглянул грозно на Швабрина.
– И ты смел меня обманывать! – сказал он ему. – Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?
Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.
– Милую тебя на сей раз, – сказал он Швабри-ну, – но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.
Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:
– Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.
Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.
– Что, ваше благородие? – сказал, смеясь, Пугачев. – Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем – и ворота запрем!
Чего я опасался, то и случилось. Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.
– Государь! – закричал он в исступлении. – Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.
Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.
– Это что еще? – спросил он меня с недоумением.
– Швабрин сказал тебе правду, – отвечал я с твер-достию.
– Ты мне этого не сказал, – заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.
– Сам ты рассуди, – отвечал я ему, – можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!
– И то правда, – сказал, смеясь, Пугачев. – Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.
– Слушай, – продолжал я, видя его доброе расположение. – Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...