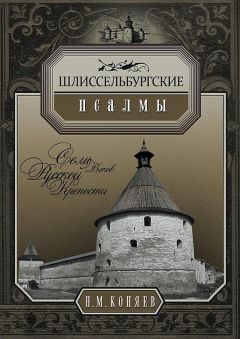На Судейском поле стало шумно. Озадачил всех табунщик Сидоркин. Еще больше озадачились люди, когда Иван Зыбин все поименованное положил перед Черкашениным на стол.
Круглоголовая, раскрасневшаяся Хивря с черными бровями, черными волосами, вдруг, оробев, без охоты хихикнула и тут же, закрыв пухлыми руками лицо, заголосила, запричитала. Знала баба, чем дело пахло.
– Панночкой схотелось ей пожить. Атаманшей… – произнесла крепкая баба, сидевшая рядом с Хиврей.
– Боярышней! – со злостью сказала другая.
– Хватай выше. Царицей хотела стать азовской! – хрипло и грубо сказала третья баба, в кокошнике. – Подымись-ка теперь, стервь, покажи змеиную голову людям, царевна-матушка! Рожа-то, у, какова, бесстыжая, непутевая! Овдовеешь, когда Апанаса на якоре повесят, – тогда поумнеешь!
– Озолотил бы ее Белый Лебедь, да больно скоро конец пришел ему, – сказал, встав, Тимофей Разя. – Озоруют, воруют, кому же в том выгода! За таковые дела Апанас недостоин милости. И Хиврю, бабу породы сучьей, не можно миловать. Бить ее следует плетьми без жалости. А избив, предать ее другой смерти – поддеть якорем за двенадцатое ребро. Доколе нам терпеть воровство на Дону, доколе видети срам неслыханный! Ядовитую траву с плевелами рвать не щадя!
– Любо! – крикнули в один голос казаки да бабы.
Хивря камнем упала на землю, заколотилась, заскребла землю руками и ногами, заголосила и стала в припадке рвать клочьями волосы на голове.
– А не воруй, – приговаривали бабы. – А не посягай, жаба, на добро чужое. Сказывали тебе, не лезь, злыдня, в боярыни. Полезла! Табунщица Хивря разбогатела! Кланяйтесь, люди добрые, Хивре нашей!
– Недаром Хивря вчора тужила да на свячоной води ворожила, – заговорила одна из баб. – Ой, каже Хивря, а одним оком зыркае в дзеркало, – ой, чоловиче Опанасе, де я тебе поховаю? Поховаю, каже сама соби Хивря, на могили, чтоб по тоби вовки вили, поховаю пид столом та накрыю постилом, поховаю пид лавкою, та накрыю холявкою!
– И-и, бабоньки! Милаи-и! – задыхаясь, прошамкала старуха, обнажив гнилой зуб. – Про таких баб сказывают: и жил – не любила, и помер – не тужила, только малость потужила, как на лавку положила!
Разъяренные люди обступили коротконогую и толстую Хиврю, засучили рукава и хотели было испробовать на Апанасовой женке крепкие кулачища, да им не дали. Помешал странник с котомкой за плечами, шагавший к Судейскому полю.
Старик Черкашенин, и есаулы, и черный поп Серапион, и дьяк Гришка Нечаев с удивлением смотрели на приближавшегося странника.
Он подошел ближе и остановился. Переложил посох из одной руки в другую, постоял, вытер рукавом пот со лба.
– Господи! Видно, спасение мое… – проговорил табунщик Апанас, вспомнив донской обычай миловать преступника, если во время казни появлялся странник.
Все встали, начали креститься. Крестился и убийца казака Иван Бандроля.
– Мир вам, сыны преславного Дона, – низко кланяясь, сказал странник. – Первый поклон отбиваю Дону славному, второй – морю синему, третий – солнцу, а четвертый – земле русской.
– Мир тебе!
– Кто этот странник? – спросила Варвара.
– Да кто ведает… – шепнули ей. – Гляди-ко, босые ноги. Будто земля от жары, потрескались…
– Ты кто же такой, милый человек? – спросил Черкашенин. – Далече ли путь держишь? Какую мы можем тебе службу сослужить? Сказывай. Я повелю, коль ты в такой божий час случился, кормить тебя, поить, сколь надобно, в путь далекий проводить мирно. Охота будет жить у нас на Дону – живи на Дону!
– Иду я, братья, издалека, – сказал старик. – Иду из-за моря во святой Соловецкий монастырь помолиться. Туда многие знатные атаманы и простые казаки хаживали. И мне туда давно пора идти – обет мой исполнить…
Худое, обтянутое сухой кожей лицо странника морщинилось вдоль и поперек. Воспаленные глаза его, затянутые сизой пеленой, слезились. Кожа на руке, державшей посох, шелушилась, словно печеный картофель. Из треснувших мозолей на руках сочилась сукровица.
Люди обступили странника, глядели на него. Дарьюшка поднесла ему черпак с водицей. Старик выпил воду и сказал:
– Коли довелось вернуться на Дон, похороните меня в моей родной земле…
– Да кто же ты? – приступая ближе, спросили люди.
– Кто ты, странник? – спросил войсковой судья. – Видно, знакома тебе земля донская?
– Господи помилуй! – воскликнул он. – Знакома ли?! Да я же родился на ней!..
– Не атаман ли ты Чершенский?
– Узнал. Я атаман Смага! Смага Чершенский. А ты не атаман ли Мишка Черкашенин? – спросил странник.
– Черкашенин!
– Отец! – выбежала из толпы Варвара Чершенская и бросилась отцу на грудь.
– Дочерь моя… – дрожа иссохшим телом, произнес Смага. – Ужели наяву осенило меня чудо? Ужели ты жива?! Можно ли верить?.. Дочерь моя, Варварушка. А мне-то сказывали, что тебя Джан-бек Гирей казнил. Я ведь за тебя молиться шел в Соловки-то…
Он стал гладить шершавыми ладонями ее волосы:
– Моя сиротинушка… Слезинка моя!
…Двадцать три года прошло с того страшного дня, когда налетевшие крымские татары схватили его, раненного в бою, и увели в полон. Малолетняя Варварушка осталась у теплого трупа матери, зарубленной татарской саблей… Двадцать три года атаман Смага не мог попасть на родину, скитался и бедствовал по чужим и дальним странам… Старый и больной, он прошел сотни верст, чтобы увидеть родную землю, по которой так истосковалось его сердце.
В Смутное, тяжкое для Руси время Смага Чершенский три года был главным атаманом[3] на Дону. Ходил против Лжедимитрия, против турецкого султана, крымского хана, бил врагов в степи, на перелазах, на море. Его большими стараниями и хлопотами войско Донское в сношениях с Москвой удостоилось великой чести перейти в ведение Посольского приказа.
Черкашенин сказал:
– В этот светлый день суд у нас будет строгий, скорый и правый.
Апанас Сидоркин сразу стал виниться, клялся господом богом, просил пощады. Винилась Хивря, вытирая вспухшие глаза. Хивря обещала заказать непристойное воровство не только себе, но и своим детям.
– Неохота мне, молодой, вдоветь, неохота горе терпеть! Апанас мил мне до смерти… Возьмите все добро наше в войсковую казну. Пощадите нас, грешних! – истошно голосила Хивря. – Пожалейте нас, несчастных, люди добрые…
– Предать Апанаса смерти. А лукавую, корыстную Хиврю без милости кинуть в тюрьму, – сказал есаул Зыбин.
– Любо! – крикнули бабы. – Любо!
– Дозвольте старому атаману слово молвить, – сказал Смага Чершенский.
– Дозволяем. Твое слово для нас не лишним будет…
– Не пойму я, за что вы казака извести хотите?
Тут шум такой поднялся на Судейском поле, что птицы тучей взмыли над свежим погостом. Черкашенин пояснил Смаге, в чем обвиняют Апанаса Сидоркина.
Смага Чершенский выступил вперед и заговорил:
– Бывал я в Исфагане, в Багдаде, в Стамбуле, в Дамаске. Бывал за многими морями в Индии. Коней повидал всяких: серебристых, серебристо-серых, голубых, словно небо, розово-черных, горностаевых. Видал бурых и золотых.
– Того не может быть, – засомневались казаки. – Таковые бы кони и у нас водились. Ан нет, у нас не водятся.
– Помолчите-ка, – сказал Черкашенин. – Послухайте!
– К примеру, конь-горностай, – говорил Смага, – высокий, светло-серый. Глаза огнем горят, косит глазами, копытами бьет о землю, танцует. Хвост у него черный, пушистый и грива черная! Любуйся с утра до ночи – не налюбуешься. Ай, конь! Загляденье! Увидал раз я горностая на конюшне персидского шаха, едва ума не лишился. Куда ни пойду – горностай перед моими очами. Прилягу отдохнуть – горностай и во сне несет меня по дорогам донским… над облаками, все дальше и дальше… Не позабыть мне такого коня ни за что. Попадались мне кони вороные, гривы алмазно-рассыпанные. Но горностай-конь всех алмазов алмаз, конь-молния!
– Да сказки бает! Отродясь нигде не довелось мне видеть живых коней розовых, голубых, черно-бурых, золотых! Занятно. Послухаем атамана Смагу – деньгу за брехню платить не станем.
– Дело! – говорили другие.
– Ой ну! Краской покрасили, видно, коня, а Смага и поверил.
– Держи речь далее, – сказал Татаринов. – Смысла много в том, что так ревностно заговорил о конях.
– Бывал я, родичи вы мои, в Алжире, в Египте и там встречал золотистых коней. Карабахский хан прозвал тех коней кегляр-сарыляры. По-нашему – золотой. Ходят они под верхом у самых знатных ханов, отважных предводителей, грозных военачальников. Дарят золотых коней царям, королям, принцам. Среди той породы бывают кони разного блеска и разной шерсти. К примеру: один конь светло-золотой, другой – чисто золотой… Только недоступны они в цене. Малый жеребеночек, а цена ему в Багдаде тысяча! Кобылица трехлетка – цена ей три тысячи серебром. А жеребцу Хан-юзу, подобного которому нигде не сыскать, цена шестьдесят тысяч. Хозяин того жеребца не продал. Видал я в Аравии высокого, стройного, быстрого и резвого богатыря-коня Джейрана. Это не конь был, а царь коней…