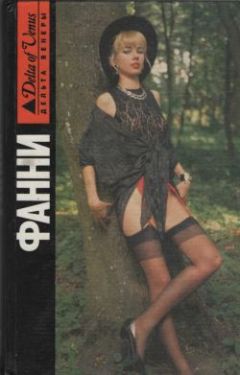Все же время, великий сей утешитель в обыденной жизни, понемногу смягчило жестокость моих страданий, притупило чувствительность к ним. Здоровье вернулось, хотя меня по-прежнему одолевали печаль, уныние и слабость, которые, кстати, стерли с лица моего сельский румянец, отчего оно стало более тонким и трогательным.
Обо всем об этом домовладелица заботилась весьма назойливо, следя за тем, чтобы я ни в чем нужды не знала, пока не увидела, что я вполне поправилась для осуществления ее замыслов. Однажды, после того, как мы с ней вместо пообедали, она поздравила меня с выздоровлением – заслугу в том она целиком приписала себе. Начав столь радужно, закончила она ужаснейшим и подлейшим эпилогом: «Теперь вы, мисс Фанни, чувствуете себя вполне сносно, вы можете оставаться в моем доме столько, сколько хотите. Вы видели: я у вас ничего не просила – и достаточно долго. Но правду говоря, с меня требуют некоторую сумму денег, которая должна быть выплачена». С этими словами она вручила мне счета за квартиру, стол, оплату лекарств, услуг сиделки и т. д. и т. п. – всего на двадцать три фунта, семнадцать шиллингов и шесть пенсов. Все, что я могла отдать в покрытие этого долга (и об этом миссис Джонс прекрасно знала), не превышало и семи гиней, случайно оставшихся от наших с дорогим моим Чарльзом совместных сбережений. Тем не менее она пожелала знать, какой вид платежа я изберу! Разразившись потоком слез, я поведала ей о своем положении, а немного оправившись, добавила, что продам то немногое, что у меня есть из платья, и остальное верну ей, как только смогу. Однако расстройство мое, так отвечавшее ее мыслям, лишь еще больше ожесточило ее.
Ледяным тоном известила она меня, «что на самом-то деле сочувствует моим бедам, только должна же она и о себе подумать, хоть ей до боли в сердце жаль будет отправить такое нежное юное создание в тюрьму…». При словах «в тюрьму!» вся кровь, до последней капельки, застыла у меня в жилах, испуг так сильно на меня подействовал, что, побледнев и ослабев, словно преступник, впервые увидевший место собственной казни, я едва не упала в обморок. Моя домовладелица, которой хотелось всего-навсего припугнуть меня, не подвергая мое тело опасным для ее планов испытаниям, снова принялась успокаивать меня, сказав голосом, в котором звучало больше жалости и мягкости, что если она и дойдет до такой крайности, то только я буду тому виной; впрочем, по ее мнению, всегда в мире найдется друг, который сумеет устроить все в лучшем виде к обоюдному нашему удовлетворению, кстати, она пригласила этого друга выпить с нами чашку чая, так что уже сегодня мы сможем определенно разобраться во всех наших делах и заботах. На все это в ответ ни словечка: я сидела безмолвная, потерянная и перепуганная.
Миссис Джонс, верно рассудив о необходимости ковать железо, пока чувства мои не остыли, покинула меня, оставив один на один со всеми ужасами, порожденными воображением, смертельно раненным мыслью угодить в тюрьму и из одного только инстинкта самосохранения хватающимся за любой проблеск освобождения от этого.
В таком вот состоянии, погруженная в печаль и отчаяние, просидела я с полчаса, когда вернулась домовладелица. Увидев на моем лице выражение смертельного уныния и подавленности, все еще преследуя свои цели, она с личиной притворной жалости причитаниями своими призвала меня утешиться. Дела, уверяла она, совсем не так плохи, как это мне представляется, если, разумеется, я не хочу становиться врагом самой себе. Завершила она свою речь сообщением, что пригласила выпить со мной чая весьма достопочтенного джентльмена, который сможет дать мне самый лучший совет, как избавиться от всех моих несчастий. Сказав это и не дожидаясь ответа, она вышла и вернулась с этим весьма достопочтенным джентльменом, чьей весьма достопочтенной сводней она была и в этом, и в других случаях.
Войдя в комнату, джентльмен отвесил мне весьма учтивый поклон, на что я едва нашла в себе силы и присутствие духа ответить книксеном. Домовладелица, беря на себя все услуги в первой беседе (ибо я, сколько помню, никогда не видела этого джентльмена прежде), придвинула ему кресло, сама уселась в другое. За все это время никто не проронил ни слова, я на сей странный визит взирала с выражением глуповатого удивления на лице.
Подали чай, и домовладелица, не желая, полагаю, терять время, заговорила вдруг про мое молчание и застенчивость. «Ну же, мисс Фанни, – сказала она грубовато по-свойски, эдаким вальяжно-приказным тоном, – поднимите голову, деточка, и не позволяйте грусти портить ваше прелестное личико. Полноте! Погрустили и будет, ну же, расслабьтесь. Вот сидит достойный джентльмен, который узнал о ваших несчастьях и желает услужить вам. Вам бы следовало получше с ним познакомиться, бросьте вы церемонии и всякое такое, покажите товар лицом, коли можете».
В ответ на эту деликатную и красноречивую болтовню и джентльмен, заметив, как от испуга и удивления я не могу ни слова произнести в ответ, взял миссис Джонс в такой оборот за грубый подход к делу, что скорее потряс меня, чем расположил к признательности за доброе свое заступничество. Потом он обратился ко мне и рассказал, что ему превосходно известна вся моя история и все обстоятельства моего расстройства; что, по его суждению, жребий слишком жестокий выпал на долю моей юности и красоты; что он давно почувствовал симпатию ко мне и много обо мне расспрашивал миссис Джонс, здесь присутствующую; что, однако, узнав, как всецело я привязана к другому, он потерял было всяческую надежду на успех, как вдруг услышал, что фортуна неожиданно отвернулась от меня; он тут же отдал необходимые распоряжения домовладелице следить, чтобы я ни в чем нужды не знала, и что, не будь он принужден обстоятельствами абсолютно безотлагательными уехать за границу, в Гаагу, он сам бы ухаживал за мной во время моей болезни. Да, он просил домовладелицу представить его мне, но его возмущает ничуть не меньше, чем меня поражает, та бестактность, с какой миссис Джонс взялась обставлять обретенное им счастье; и вот, чтобы убедить меня, как неприятно ему ее поведение, как далек он от того, чтобы недостойным образом воспользоваться моим положением, и от того, чтобы располагать какими-либо гарантиями моей благосклонности, он у меня на глазах, сию же минуту полностью погасит мои долги миссис Джонс и вручит мне ее расписку, после чего предоставит мне самой решать, ответить ему отказом или согласием, сам же он ни в коем случае не может себе позволить силой добиваться моего расположения.
Пока он распинался о своих чувствах ко мне, я заставила себя взглянуть на него, окинув взглядом его фигуру: такая бывает у ладно скроенных, приятных джентльменов лет сорока; одет он был без затей, на одном из пальцев носил бриллиант, который радужно играл у меня перед глазами всякий раз, когда в разговоре джентльмен взмахивал рукой, это укрепляло меня во мнении, что он очень важный господин. Короче, он вполне мог бы сойти за того, кого обыкновенно называют благонамеренным злодеем, со всеми отличиями, естественными для людей его происхождения и положения.
Ответом на все его речи, однако, были лишь хлынувшие рекой слезы: успокаивая меня, они мешали мне говорить, что было весьма кстати, ибо я не знала, что сказать.
Вид мой растрогал его, как он сам мне позже сказал, невыносимо, и, желая дать мне хоть какой-то повод горевать поменьше, он вытащил кошелек, спросил перо и чернила, которые миссис Джонс держала наготове, и заплатил ей все до последнего фартинга (не считая щедрого вознаграждения, которое должно было последовать, но о котором я знать не должна); затем, держа расписку, как развернутое знамя, он настоял, чтобы я засвидетельствовала ее, водя моей рукой, в какую потом и вложил расписку, заставив меня препроводить ее себе в карман.
Душа моя еще не оправилась от ударов, ею полученных, и я никак не могла выйти из состояния то ли отупения, то ли меланхолической грусти. Заботливая домовладелица покинула комнату, оставив меня один на один с этим незнакомым господином, прежде чем я успела это заметить, а когда заметила, то никакой тревоги уже не испытывала, поскольку была безжизненна и равнодушна ко всему.
Джентльмен, не новичок в делах такого рода, приблизился ко мне и, делая вид, что успокаивает меня, сначала платком утер слезы, сбегавшие по моим щекам, а заодно решился и поцеловать меня. Я не противилась и не поощряла его, а сидела окаменев, сама себя рассматривая как товар, куплю-продажу которого я же и засвидетельствовала.
Меня нимало не заботило, что станет с моим истерзанным телом, не было во мне уже ни жизни, ни души, ни мужества, дабы противиться даже самому слабому натиску, не было даже присущего моему полу целомудрия: равнодушно сносила я все, что джентльмену было угодно. А тот, в порыве чувств перехода от одной вольности к другой, запустил руку между шейным платком и моей грудью, которую он время от времени потаскивал: не чувствуя сопротивления и видя, что – вопреки ожиданиям – все располагает к полному удовлетворению его желаний, он поднял меня на руки и понес, безжизненную и недвижимую, к постели, где бережно уложил и воспользовался тем, что мог делать все, что заблагорассудится. Какое-то время я просто не могла в толк взять, что ему надобно, пока, выбираясь из дремы бесчувствия, не обнаружила, что он уже погрузился в меня, а я лежу пассивно, не ощущая ни малейшего признака удовольствия – у охладевшего трупа едва ли было бы жизни и чувства меньше, чем у меня. Удовлетворив таким образом страсть, в которой почти вовсе не было сочувствия к состоянию, в каком я пребывала, он встал, оправил на мне одежду и вынужден был с большим трудом сдерживать приступы угрызения совести и бешенства, которые охватили меня (слишком поздно, должна признаться) из-за того, что на этой вот самой постели я терпела объятия совсем чужого человека. Я рвала на себе волосы, заламывала руки, била себя в грудь, как сумасшедшая. И когда мой новый господин (а теперь я так на него смотрела) пытался успокоить меня, то поначалу я-то весь гнев свой против себя обратила, ничуть не позволяя себе хоть частичку его направить против него; я умоляла его, скорее сдаваясь, чем гневаясь, оставить меня одну, по крайней мере, дать мне возможность наедине с собой спокойно пережить свою печаль. На это он ответил твердым отказом, сделав вид, будто опасается, как бы я не сделала с собою что-нибудь нехорошее.