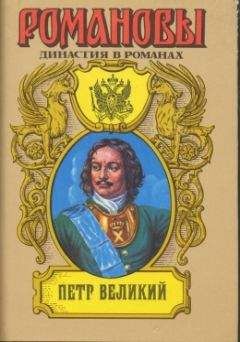– Чуешь, Евфросиньюшка? Шаркает! Одна нога шаркает. То батюшка мой… слышишь, шаркает… И злой-презлой…
Евфросинья юркнула в противоположную дверь. Тотчас же в горницу вошёл Александр Данилович. Чуть кивнув на поклон хозяина, он с подчёркнутой вежливостью пропустил государя и стал за его спиной.
– Девкой пахнет! – потянул носом царь. – А? Чего качаешься, словно тебя кто по щекам отхлёстывает?
Окрик отца ещё больше испугал царевича. Он беспомощно, как сбившийся с дороги слепой, зашарил руками в воздухе.
– Заместо того, чтобы остатние часы подле умирающей сидеть, он с девкой путается… Что ты сказал?
– Ммм… Я…
– Ну, что «мммя»? Что кошкой прикидываешься? Небось, когда в Суздаль гонцов снаряжал, не мяукал, а по-волчьи выл! Снаряжал гонца?.. Говори!
– Снаряжал… Хотел внуком обрадовать матушку.
– Пускай-де выбирает Русь православная… Настало-де время… А? Говори!
– Да, – тоненько пискнул Алексей. – Вроде и то сказал: пускай-де Русь православная…
Он хотел прибавить: «радуется рождению царского внука» (ему показалось, будто именно так он и просил Евстигнея сказать матери), но удар по темени лишил его сознания.
Меншиков приказал подать воды и прямо из ковшика плеснул на царевича.
– Брось его! – сгорбился Пётр. – Больше не о чём разговаривать. Он все сказал.
Пришедший в себя Алексей отполз к стене и прижался к ней головой. На потный лоб упала прядка волос, тонкая шея гнулась, как стебелёк. В больших испуганных глазах таились одиночество, тоска и детская беспомощность.
Что-то похожее на жалость шевельнулось в груди государя.
– Встань!
Меншиков подхватил царевича и усадил в кресло. Пётр уже принял решение. Это понял Александр Данилович в ту минуту, когда царь неторопко зашагал по терему, что-то насвистывая.
В шумно распахнувшуюся дверь, толкая друг друга, вошли Вяземский, лекарь и «мажордом».
– Преславная княгиня в бозе почила, – низко склонил голову Никифор и осенил себя широким крестом.
– Царство небесное, вечный покой! – перекрестился и Пётр. – Из персти[328] взяты и в персть обратимся.
По слабому знаку государя Меншиков приказал всем убраться ив терема и плотно закрыл дверь. Алексей недвижимо лежал перед киотом.
– Можешь разуметь, что я говорить сейчас буду? – легонько толкнул его ногою отец.
Царевич встал.
– Не могу… Муторно мне.
Меншиков открыл окно. С шумом ворвался ветер. Держась за стену, Алексей подвинулся к окну и жадно глотнул промозглый воздух.
– Теперь можешь?
– Словно бы могу, батюшка…
Ответ прозвучал бесстрастно, как и вопрос отца. Оба уставились друг на друга. Помолчав немного, государь склонился к сыну и заговорил – спокойно, как беседуют где-нибудь в кружале случайно очутившиеся рядом люди. Алексей слушал рассеянно, словно речь шла вовсе не о нём.
Это взорвало царя:
– Впрямь ты пень или только прикидываешься лисой дохлой? Ты что-нибудь из моих слов разумеешь?
– Все слова твои разумею.
В голосе сына Петру почудилась насмешка. В груди закипал гнев. На правой щеке подозрительно задёргалась родинка.
Что-то похожее на гнев входило и в Алексея. Он сел в кресло и в одно мгновение с отцом поднялся.
– Как не разуметь? – визгливо повторил он и ткнул пальцем в сторону Меншикова. – Пнём меня сей муж почитает. А я…
– Умник-разумник, – процедил Пётр. – По лику видать мудрость твою.
Что-то скользкое и холодное вертлявой змейкой промелькнуло во взгляде Петра. И точно такая же тень, как в зеркале, отразилась во взгляде сына. Пальцы государя собрались в кулак. Кулак Алексея застучал по столу. У обоих от лица отхлынула кровь. Оба сгорбились. Отец глядел на сына и чувствовал, что в нём отражается каждое его движение: царёва бровь приподнялась – подпрыгнула бровь и у царевича; трепетней забилась родинка на правой щеке государя – и так же, до ужаса отчётливо, затокала в том же месте правая щека Алексея.
Петру стало жутко. Он выпрямился, тряхнул головой, точно отгонял от себя наваждение, и присел к столу.
– Вот что. Не надо свары. Я лучше напишу тебе, что хотел сказать, а ты мне завтра ответишь.
Приняв от Петра исписанную бумажку, Алексей несколько строк пробежал глазами, потом, забывшись, стал читать вслух:
– «…Сие всё представя, обращуся паки на первое, о тебе рассуждая: ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому вышеписанное с помощью вышнего насаждение оставлю? Тому, иже уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, – сиречь всё, что Бог дал, бросил? Ещё же и сие вспомяну, какова злаго нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не токмо бранивал, но и бивал, к тому же столько лет почитай не говорю с тобою, но ничто сие не успело, ничто пользы, но всё даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только дома жить и веселиться… Я за благо изобрёл сей последний тестамент[329] тебе написать и ещё мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу, яко уд гангренный, и не мни себе, что один ты у меня сын и что я сие только в устрастку пишу, воистину (Богу угодно) исполню, ибо я за моё отечество и люди живота своего не жалел и не жалею, то како могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».
По мере чтения Меншиков всё больше морщился и темнел. Он ждал совсем не того. «Куда же сие годится? Ему говорят, что противу него восстал сын, а он – малость ещё погодим, да ежели, да исправься…»
– Так завтра ответ, – буркнул царь и направился к двери.
Александр Данилович всю обратную дорогу молчал.
– Об чём ты тужишь?
– Горько мне… Горько, что мучаешься из-за царевича.
– Нешто не расправился я с ним только что?
– Может, и расправился, а лазейку оставил…
– И не подумал! То я так, чтоб не охаяли меня люди. А про себя знаю: не будет из него толку. Памятуй – лучше руку себе отсеку, чем ему престол завещаю. Сломает он Русь. Всё вспять повернёт. Не допущу сего, хоть пусть весь свет анафеме предаст меня. Не допущу погибели царства нашего. И не мни, что Евстигнеевы слова тут причиной. Евстигней только приблизил время расплаты со всеми ворогами моими.
Неподалёку от дворца они увидели бегущих навстречу Марью Даниловну и Арсеньеву.
– Бог сына вам даровал!
У Петра захватило дух. Подобрав одной рукой полы шубы и непрестанно крестясь другой, он побежал и, ворвавшись к жене, немедленно приказал внести ребёнка.
– Поздорову ль, Петрушка? – вытянулся он по-военному перед младенцем. – Поздравляю вас, Пётр Петрович, с прибытием в любезное наше отечество!
Узнав о рождении брата, Алексей сам явился к отцу с поздравлением.
Пётр не принял его, отослав к роженице. Екатерина была очень ласкова с пасынком; вспомнив о принцессе, всплакнула над «незабвенной Шарлотточкой»; заговорив о новорождённом сыне царевича, почла уместным тоже всплакнуть, а перед расставанием долго, с материнской печалью глядела на невесёлого гостя.
– За рубеж надо бы тебе, царевич. Там отдохнёшь, здоровье поправишь, развлечёшься среди новых людей. Обязательно, крёстненький, за рубеж.
Алексей подозрительно наморщил лоб: Екатерина словно угадала то, о чём говорили ему сегодня служивший при царевне Марье Алексеевне Александр Кикин[330] и князь Василий Долгорукий.
Он передал для отца цидулу и суховато простился.
Едва сани Алексея выехали со двора, Пётр прибежал к жене.
– Принёс?
– Принёс.
«Правление толиково народа, – писал царевич, – требует не такого гнилого человека, как я. Хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому дай Бог здоровья».
– Врёт! – скомкал государь бумажку. – Не сам писал. Всё врёт!
Он отправил сыну новое, полное обидной ругани письмо и пригрозил свернуть шею посланцу, если тот вернётся без ответа.
– Чего ему ещё надо? – заломил руки царевич. – Отрёкся я от наследства… Чего же ещё? Неужто правду пророчит князь Долгорукий, что ему голова моя понадобилась?
– К тому клонит; – подтвердил Вяземский. – По всему видать, к тому дело идёт.
– Как же быть? Куда кинуться?
– Одна тебе дорога – за рубеж.
– Другого нету путя, лопушок, – вслед за Вяземским сказала и Евфросинья. – И каково заживём там на всей вольной волюшке!
Ласковый голос наложницы немного успокоил Алексея. Он присел к ней на колени и зажмурился. «За рубеж… На вольную волюшку… От зла уйти и сотворить благо, как в Евангелии писано. К чему свары, коли ещё Давид, царь израильский, рёк: „Человек, яко трава, и дни его, яко цвет сельний, тако отцветёт“.
– Серчает, – доложил дворецкий.
– Кто?
– С ответом торопит посол…
– Что ж! – внезапно озлился Алексей. – Пропишу!