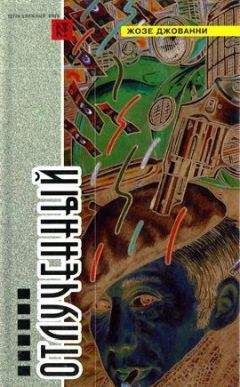Через несколько часов после прибытия «Метеора», когда ароматы французской готовки наполнили весь замок, в каземат вошли дюжие бретонцы и поволокли Джека в ту часть дворца, которая, насколько он понимал, примыкала к спальне. Окон здесь не было: освещённый факелами коридор соединял помещения, до которых при последнем переустройстве так и не дошли руки. Комнаты и закутки выглядели почти такими же, какими оставили их боевые дружины викингов, сарацинов или шотландцев. Тот там, то тут Джек видел заднюю сторону стены: дранку, алебастр, штукатурку. Кое-где были свалены бочонки и ящики. В одном месте коридор расширялся, и к стене была прислонена чугунная решётка; выкованная кузнецами тысячу лет назад, выломанная и отброшенная во время каких-то бурных событий, она теперь бесполезно собирала пыль и паутину в пустом коридоре. Бретонцы распластали Джека на решётке и привязали верёвками. Тут-то и стало очевидно, что они моряки. Когда Джек открыл рот, чтобы отпустить какое-то замечание по этому поводу, ему быстренько затолкали туда кляп, примотали челюсть к голове, а голову – к решётке. Привязали даже пальцы, в чём Джек усмотрел некоторое излишество, разве что они боялись, как бы он не стал с кем-нибудь перестукиваться. Покончив с работой, бретонцы протащили Джека вместе с решёткой ещё несколько шагов по коридору за сырую, плесневелую портьеру, и он на мгновение ослеп от яркого света. Когда глаза привыкли, он сперва подумал, что попал в спальню, где провёл первую неделю. Потом стало ясно, что спальня видна через стекло – те самые зеркала в дальней стене. Отсюда Джек видел всё помещение: он стоял в изголовье увенчанной балдахином кровати на расстоянии вытянутой руки от подушек, на которые хозяин или хозяйка опочивальни клали бы голову.
– Этот архитектурный стиль оказался как нельзя кстати, – произнёс кто-то по-французски.
Джек подпрыгнул бы, не будь он привязан; поскольку бретонцы ушли, а никого другого рядом вроде бы не было. Двигать можно было только глазами; скосив их изо всех сил, он различил движение в дальнем конце потайной комнаты.
На середину вышел человек в парике – белом, пудреном и до того нелепом, что это могла быть только последняя парижская мода. Что-то у него было не так с рукой, но в остальном посетитель выглядел превосходно и (насколько Джек мог различить за вонью грязного кляпа) весь благоухал.
– Боюсь, ты меня не узнаешь, – сказал тот из двух, кто мог говорить. – Я сам еле-еле узнал тебя. Последний раз мы виделись в Большой бальной зале моей парижской резиденции – особняка Аркашонов. Тогда ты весьма поспешно и неучтиво расстался с большей частью меня, руку мою, впрочем, пронёс ещё несколько миль на узде своего великолепного скакуна. Её нашли на середине почтового тракта в Компьень, узнали по моему кольцу с печаткой и вернули. Однако на этом ты в расчленении де Лавардаков не остановился и несколько лет спустя любезно прислал мне голову моего отца.
Этьенн де Лавардак, герцог д'Аркашон, поднял руку. На месте отрубленной кисти ремешками крепился чёрный хлыст. Не будь у Джека во рту кляп, он бы объяснил, что в сравнении с испанской Инквизицией Этьенн – дитя малое, однако герцог угадал его мысль.
– О, это не для тебя. Семнадцать лет я продумывал месть и приготовил кое-что поинтересней хлыста. Видишь ли, нужно время, чтобы выстроить такой тайник. У меня их несколько – ещё один в Сен-Мало и третий в Ла-Дюнетт. Я стоял в них и смотрел, как моя жена отдаётся сержантам и криптологам. Однако строил я их не для того, и лишь сегодня они служат своему истинному назначению. Вреж Исфахнян сейчас в таком же в Ла-Дюнетт, связан, как ты, и смотрит через зеркало в комнату, где его богато разодетые братья подают гостям дорогой кофе.
Мы уверили мсье Исфахняна, будто его братья, преданные тобою, Джек, умерли от тифа в долговой тюрьме. Радость от того, что они живы, отчасти уравновесится осознанием, что он напрасно ополчился против тебя и потерял свою долю золота и серебра в трюмах «Минервы». Отец Эдуард через несколько дней будет в Версале. Он сообщит мсье Исфахняну, что пропавшее золото всё это время было на корпусе корабля, и тем усугубит его муки. Такой пытке, думаю, позавидовала бы испанская Инквизиция. Однако для тебя, Джек, припасена ещё более изощрённая!
Он вышел.
Открылась дверь, и в спальню вошла женщина. Джек узнал её не сразу лишь потому, что не хотел. Она изменилась, но не настолько. Он просто не находил в себе силы на неё посмотреть.
Наср аль-Гураб рассказывал, что при захвате Константинополя турки нашли в темнице устройство, которым византийцы когда-то ослепляли знатных узников, – не заострённые железяки, а медная полусфера вроде чаши с чем-то вроде тисков. Её сперва раскаляли, чтобы она начала светиться, а затем голову узника – в маске, оставлявшей открытыми только глаза, – вставляли в тиски. Аппарат располагался так, что осуждённый смотрел в самый центр полусферы. Когда он открывал веки, глаза видели лишь небосвод пламени и мгновенно слепли. Их чувствительная часть выгорала, и осуждённый оставался незрячим, хотя ничто не касалось его глаз, за исключением последнего страшного отблеска.
После Джек иногда на досуге размышлял, что творилось в голове узника. Сопротивлялся ли он? Тянули ему веки клещами, или несчастный каким-то образом сам открывал глаза?
Таким же было состояние Джека, когда он следил взглядом за Элизой, не смея прямо на неё взглянуть. Однако, в конечном счете, он всё-таки открыл глаза, по собственной свободной воле, хоть и знал, что может ослепнуть.
Она вернулась с парадного обеда и теперь переодевала платье, умывалась, отклеивала мушки и распускала волосы. Камеристки входили и выходили. Девочка лет девяти, с лицом, изъеденным оспой, вошла в комнату и забралась Элизе на колени, чтобы её покачали и приголубили. Элиза почитала ей книжку, потом, отправляя девочку спать, поцеловала в обезображенные щёчки и лоб. Гувернантка привела мальчика лет семи; он пока избежал оспы, но смотреть на него Джеку было ещё больней, поскольку детское лицо несло следы того же фамильного уродства, что у двух старших д'Аркашонов. Однако Элиза встретила его улыбкой и приласкала, а потом почитала ему вслух, как и рябой девочке. Гувернантка увела мальчика, и Элиза, оставшись одна, принялась разбирать почту. Она прочла кучу записок и написала два письма.
Этьенн вошёл, сорвал камзол и бросил шпагу на козетку под окном. Элиза поздоровалась с ним через плечо. Этьенн двинулся вдоль кровати к Джеку, на ходу развязывая шейный платок и помахивая хлыстом. Перед зеркалом герцог остановился, делая вид, будто разглядывает своё отражение, на самом деле глядя Джеку прямо в глаза.
– Сегодня я хочу прокатиться на кобылке, – объявил он громко, чтобы слышно было за зеркалом.
Элиза слегка удивилась, но быстро взяла себя в руки. Она спрятала мгновенное раздражение, дописала фразу, поставила перо в чернильницу, встала и потянула через голову платье. То, что предстало немолодым глазам Джека через посеребрённое стекло, за семнадцать лет ничуть не утратило своей прелести. Он видел, что Элиза выдержала спор с оспой и вышла победительницей. Ну разумеется, она должна была победить!
Муж наотмашь ударил её по лицу, бросил лицом на кровать и несколько раз хлестнул по заду и бёдрам, поднимая иногда голову, чтобы ухмыльнуться зеркалу. Он велел Элизе встать на четвереньки, и та подчинилась. В продолжение всего совокупления Этьенн стоял на коленях, выпрямившись, и смотрел на Джека до последних секунд, пока не закрыл глаза.
В застенках Инквизиции Джек испытал на себе то, о чём говорили многие заключенные: на каком-то этапе пыток тело теряет чувствительность и перестаёт ощущать столь сильную боль. Нечто подобное произошло и сейчас. Больно было увидеть Элизу – оказаться так близко к ней. Больнее всего, наверное, – смотреть на её маленького Лавардака. «Катание на кобылке», при всей своей гнусности, не доставило Джеку тех мук, на которые рассчитывал Этьенн. Если бы Элиза вскочила из-за стола, осыпала мужа поцелуями, затащила в постель и отдалась ему с бешеной страстью – вот это было бы больно. Однако она пожала плечами и поставила на место перо. Ещё не высохли чернила на фразе, которую она писала, когда вошёл Этьенн, а Элиза уже шла к столу с выражением, означавшим: «На чём я остановилась, прежде чем этот, как бишь его, меня отвлёк?»
Позже Джека отвели обратно в каземат. На следующую ночь всё повторилось, почти, как если бы Этьенн в глубине души знал, что в первый раз не достиг желаемого результата. Разница была в том, что когда Этьенн вошёл в комнату и объявил о своих намерениях, Элиза уже по-настоящему изумилась.
На третью ночь она явно не знала, что и думать, и засыпала Этьенна множеством осторожных вопросов, пытаясь выяснить, не опухоль ли у него в мозгу.