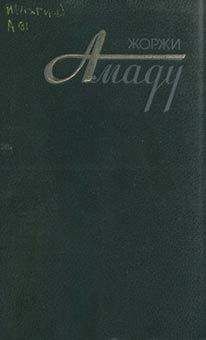Объявляют об этом питомцам. Совсем мужики вздурились. Собрались к Леониле Дурдаковой, ликуют, мерекают и так и этак, спрашивают хозяйку:
— Ну, каково, «царская дочь»!? Таки добились мы правды. За что-ж мы, однако возили дрова двадцать-то лет? Стало быть, нас заставляли возить, а деньги брали себе? Да что ты, хозяюшка, невеселая? Иль Ипата жалко? Что потупилась?
— Вижу я, мужики, уж очень у вас губу разъело от царских милостей. Остается вам просить, чтоб вам деньги за двадцать лет отдали.
— А что-ж, и подадим. И отдадут. Теперь шабаш нашей горькой жизни. Сама матушка наша Мария Феодоровна Кузьме сказала: «Живите, как господа живут». Стало быть, так: всю землю мы должны отдавать в аренду, а сами работать не должны, а должны жить землей… Что ты скажешь на это, Ленила?
— Все это ладно, мужики, только вы вот о чем подумайте: какую нам управитель ни объявляет бумагу, то в ней написано, что мы крестьяне. А ведь мы, по положению воспитательного дома, мы, питомцы — вольные люди навсегда…
— Мало ли что теперь напишут. Бумага все вытерпит. Вот мы возьмем теперь и напишем окончательные наши пункты: первое — оставляемся мы питомцами навсегда, второе — за возку дров вернуть каждому за двадцать лет, третье — все землю отдать нам, как было вначале, чтобы никто к земле касаться не смел!
Написали прошение и, не зная судьбы Кузьмы и Тараса, решили дождаться их возвращения, да и послать с новым прошением в Петербург их же, хотя находились и другие охотники: кому же не лестно за мирской счет побывать в столице!..
III. О том, как губернатор испортил дело, побоявшись простудить свою лысину
Полного согласия между жителями питомских поселении не было, да и не могло быть: одни из них еще тешились мечтой о барской жизни и не хотели работать, рассчитывая на неиссякаемый источник царских милостей, другие, разоренные праздной и пьяной жизнью, думали о том только, как бы прокормиться, третьим нужна была именно эта голь перекатная, главным образом, для уборки урожая и для молотьбы. А раз не было согласия, то принц без труда узнал о новых замыслах питомцев.
Голы ноги-Шилом хвост решил, что теперь настала самая пора унизить Леонилу. Он приказал ей явиться в контору управителя.
Леонилу ввели в кабинет управителю, и они там остались вдвоем.
— Ты грамотная? — спросил управитель.
— Да.
— Вот возьми и прочитай!
Управитель протянул Леониде старую, пожелтевшую с краев бумагу. Леонила взяла бумагу и прочитала. Она сама в первый раз увидала своими глазами меморию, о которой знали все, что Лейлы Дурдаковой по особому словесному приказу Александра Павловича запрещено «касаться».
Леонила прочитала хартию своей вольности и положила на стол.
— У тебя каждый раз сборища, — заговорил Голы ноги-Шилом хвост, — я знаю все. Вот намедни опять у тебя собрались крестьяне и писали прошение на меня. Знаешь ли ты, что теперь уж ты не питомка, а крестьянка, и я могу с тобой сделать все, что захочу.
— Попробуй! — ответила Леонила, переводя взор с лица управителя на листик, лежащий на столе. Принцу показалось, что Леонила сделала движение, чтобы схватить грамотку. Управитель предупредил ее и сам взял листик в руки. Взоры их опять встретились. Леонила рассмеялась, показывая оскал ровных белых зубов.
— Вот смотри! — закричал управитель, задыхаясь, и разорвал царскую меморию пополам, сложил, да еще пополам и еще и еще. От бумаги осталось шестнадцать мелких клочьев. Управитель в восторге кинул клочки на паркет и, хрипя и брыжжа слюной, топтал обрывки бумаги сапогами.
— Я здесь — царь и бог! — воскликнул управитель. — Я тебе покажу! — кричал он, приступая к Леониле.
— Ну что-ж, покажи, а я посмотрю! — ответила Леонила смеясь.
— Ага! Ты еще не пробовала! Ну теперь попробуешь! Пошла на конюшню!..
Леонила захолонула, застыла и вдруг вся изменилась, улыбнулась ласково и, упав на колени, протянула к управителю руки:
— Я в твоей власти! Все сделаю, что твоей милости будет угодно!..
— Я здесь — царь и бог!
Вся Мариинская колония встала втупик, узнав, что Леонида осталась в дому управителя. Через несколько дней еще более удивились поселяне, узнав, что Голы ноги-Шилом хвост сам лично, поехав в город, выхлопотал, чтобы Ипата Дурдакова выпустили из острога. Ипат вернулся. Две тройки свои поставил в казенном деннике, а сам поселился в кучерской при конторе. Всего же удивительнее было то, что Голы ноги-Шилом хвост перестал ездить верхом и теперь скакал всюду на тройке в тарантасе с нагайкой в руке, с кучером Ипатом. Если управителю казалось, что тройка скачет тихо, он хлестал нагайкою Ипата, а тот стегал кнутом коней… Ипат был непонятно весел и пел лихие песни.
Чего раньше не было — управитель сделался скор на руку и не жалел наказании. Крестьяне, лишась притона, лишись подсказа, растерялись и притихли. Поселянки шептались меж собой и хотели увериться в том, что Леонида им не изменила и что управитель от нее не добьется ничего.
Хозяйство на земле имеет свои сроки, что бы ни делал человек, чем бы он ни волновался. Пахарь умирает, а нива колосится в свое время. За знойным летом приближается неизбежная осень, и надо до дождей снимать и убирать урожай.
Хлеб на собственных посевах управителя уродился плохой; питомцы работать не пошли ни даром, ни за деньги. Нужно было нанимать рабочих — издалека, на хозяйском продовольствии, а его Голы ноги-Шилом хвост не заготовил. Предвидя неудачу, компаньоны принца паев не внесли. Питомцы начали красть хлеб с полей. Надо было убирать хлеб во что бы то ни стало. Управитель решился употребить на это все бывшие у него казенные деньги и оставил без жалованья рабочих и мелких служащих на ферме и в конторе. И меж них начался ропот. Теперь и служащие управления из вольных людей написали жалобу и донос на принца. Грозила ревизия. Хлеб свой у правитель свез в общественные бани Николаевского Городка. Вывозить хлеб на базар питомцы не брались ни за какие деньги, а однажды ночью сбили замки, нагрузили обоз и отправились в город продавать принцев хлеб от себя, как бы свой собственный.
Управитель исходил гневом и отчаянием. Напрасно он искал забвения в разнообразных утехах. Что творится в доме управителя, никто не маг узнать. Однажды вечером поселяне услышали раздирающие душу вопли и увидели Леониду, бегущую в растерзанном виде к своему дому. Вскоре за ней туда прибежал Ипат, и они замкнулись в доме вдвоем и никого не впускали. Из дома управления от принца шли послы за послами и, стуча в окна, запертые ставнями на болтах, требовали именем управителя, чтобы Леонила вернулась. Им отвечало одно молчание. Тогда явились посланцы за Ипатом, чтобы шел скорее: управитель собрался куда-то ехать, велел заложить лучшую тройку и приказывает Ипату править лошадьми.
— Сейчас выйду, — ответил Ипат…
Запоры загремели. Дверь открылась. Леонила вышла проводить Ипата за ворота, обвила его шею руками и зарыдала. Ипат отстранился. И конюх, посланный за Ипатом, увидел, как Ипат снял со своей руки одно за другим два обручальных кольца и надел Леониле на палец…
Ипат подал тройку к барскому крыльцу, едва сдерживая стоялых жеребцов. Слуги подсадили князя Гогенлоэ-фон-Шиллингфюрст в тарантас еле живого — он был пьян, но нагайка болталась у него, надетая ременной петлей на руку.
Тройка сорвалась с места и пропала в ночной тьме. От тряски управитель на некоторое время очнулся и, опоясав плечи Ипата нагайкой, крикнул:
— Гони, гони! Пой песню!
А потом опять повалился в тарантас и что-то бормотал.
Ипат свистнул и запел. Не получив никаких приказании, куда именно ехать, Ипат направился по дороге к селу Курдюм, на Волге. Меж селами Курдюмом и Пристанным есть крутая лучка, где струя бьет прямо в гору и даже в самую межень подмывает яр: понизу, берегом, нельзя пройти никогда, и даже бурлацкая тропа здесь идет верхом, по краю высокого обрыва, а под обрывом — стрежень самый и глубина. Тройка поскакала тут под гору, одолев увал, и принц вновь очнулся от свежего ветра с реки. Управитель снова настегал Ипата и закричал:
— Гони! Гони! Пой песню!
Ипат закричал:
— Эх! Пропадай моя душа!
Тройка круто повернула с дороги и, вздымая горький от полыни прах земли, понеслась к обрыву. Управитель догадался и хотел выпрыгнуть из тарантаса. Но было поздно. Тройка ринулась в Волгу с обрыва; послышался шумный всплеск воды, и все утихло.
Тарантас и тройка через три дня всплыли в верховьи Тарханки, повыше Саратова, а тела управителя и кучера остались неразысканными. Возникшее дело предано было забвению за нерозыском виновных. Злодей — если это были злодейство — погиб вместе со своей жертвой. А можно было думать и так, что гибель Ипата и управителя была случайна: и кучер и седок, — это все показали согласно, — были, отправляясь в свой последний вояж, жестоко пьяны, кони рьяны. Путники могли сбиться с пути, и кучер не сдержал коней на круче.