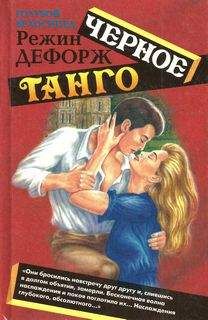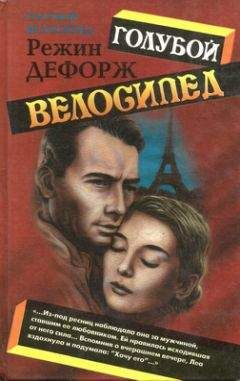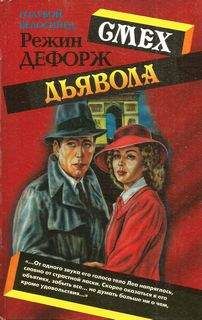Леа рассказала ему о чувствах Алена Лебрена к Франсуазе и попросила организовать поездку в Пила, где у Лефевров была вилла на берегу моря. Стоял июнь, и что могло быть естественней и понятней, чем желание искупаться в океане? Поскольку Леа не могла найти предлог, чтобы не брать с собой детей, им пришлось отправиться вшестером ранним субботним утром в новой машине Жана марки «ситроен» в 15 лошадиных сил с передним приводом. Увидев, как большая черная машина остановилась у дома, Леа невольно отпрянула от окна, ей почудилось, что сейчас откроется дверца и из машины выйдет Морис Фьо со своими подручными.
В багажник машины погрузили приготовленные Руфью корзины с провиантом. Женщины с детьми разместились на заднем сиденье, а мужчины заняли места на переднем. В этот день в Вилландро была ярмарка. Несмотря на ранний час, город был запружен повозками, грузовиками, стадами овец и коз. Из клеток доносились крики домашних птиц, в арбах похрюкивали свиньи. В мягком свете утра каждый, не торопясь, шел по своим делам. Миновав город, они выехали на дорогу, которая прямиком шла через Ландский лес. У Леа сжалось сердце при воспоминании о тех днях, когда они с Камиллой и Шарлем прятались в этом самом лесу. Шарль был тогда совсем крохотный. Помнит ли он теперь об этом? Мальчик с серьезным и внимательным видом молча смотрел на мелькающие деревья.
— Где-то здесь была голубятня отца Леона, — вдруг произнес он.
Леа вздрогнула, а Жан Лефевр резко крутанул руль. Оказалось, все трое думали об одном и том же, и их мысли передавались от одного к другому!
— Ты помнишь голубятню отца Леона? — спросила Леа.
— Не очень отчетливо. Помню только, что там были ты и мама. Ведь это — где-то здесь, правда?
— Да, дорогой, это, по-моему, недалеко отсюда.
Шарль отвернулся и, прильнув к стеклу, казалось, целиком погрузился в созерцание. Пьер заснул на коленях у матери. Все долго ехали молча.
Наконец казавшаяся нескончаемой прямая дорога свернула к хутору Ламот. У Леа вырвался вздох облегчения. Сколько она себя помнила, путь через Ланды всегда был для нее, в отличие от родителей и сестер, бесконечно утомительным. Глядя на сосны, похожие одна на другую как две капли воды, она испытывала необъяснимое чувство тревоги.
Проехав Аркашон, они остановились у мадам Руссель, которой были доверены ключи от виллы.
— Месье Жан! Какое счастье снова свидеться после этих ужасных лет! Бедный месье Рауль! Какое непоправимое горе! Несчастная мадам Лефевр, как она должна переживать!
Жану с трудом удалось остановить поток сочувственных восклицаний сторожихи.
Дом, где во время войны стояли немцы, не очень пострадал, но как бы потускнел. Это слово сразу же пришло на ум Леа, и, не отдавая себя в этом отчета, она произнесла его вслух. Жан с удивлением взглянул на нее.
— Именно это подумал и я, — сказал он. — Помнишь, когда мы были здесь в последний раз? Это было накануне помолвки Камиллы и Лорана.
— С тех пор, как мне кажется, прошла целая вечность!
— Стоп! Не надо впадать в меланхолию! Сегодня прекрасная погода, и ты тоже прекрасна!
— Правда? — спросила она и закружилась перед ним.
— Леа! Леа! Идем скорее посмотрим на море! — закричал, теребя ее, Шарль.
— Пьер тоже хочет смотреть море, — заявил малыш.
Жан подхватил его и усадил себе на плечи. Мальчик залился радостным смехом. Леа, взяв Шарля за руку, побежала вслед за ними.
— Франсуаза! Ален! Вы идете с нами? — спросил на бегу Жан.
— Я подойду чуть позже. Не спускайте глаз с Пьера! — ответила Франсуаза.
— Я тоже остаюсь, — сказал Ален Лебрен.
— Ну, как хотите. Держись крепче, наездник! Я — Конь-Огонь, самый быстроногий скакун в мире! Гоп-гоп-гоп!
Крепко держа за ножки хохочущего от радости ребенка, Жан галопом поскакал к морю.
— Он уронит его! — испуганно проговорила молодая женщина.
— Не беспокойтесь, он — надежная лошадка, — ответил ей Лебрен.
Из окон дома, расположенного на пригорке, им открывался вид на дюны и пляж. Побережье было безлюдно и хранило приметы недавних боев, над которыми, как стражи, возвышались доты Атлантического вала.
— Что если там еще остались мины? — спохватилась Франсуаза, и бросилась было бежать за сыном. Но Ален удержал ее.
— Не бойтесь, саперы обезвредили все мины, и есть официальное разрешение на посещение пляжа.
— Но они могли не заметить одну или две. Не смейтесь, до сих пор кое-где взрываются снаряды, оставшиеся еще от войны 1914 года.
— Верно, но здесь разминирование велось сантиметр за сантиметром. При этом погибло несколько немецких военнопленных…
— Я знаю, — печально проговорила Франсуаза.
Ален тут же упрекнул себя за то, что упомянул о немецких военнопленных. Его слова могли быть неприятны Франсуазе. Но она спокойно подошла к машине и стала выгружать из багажника провизию.
— Помогите мне… Не знаю, что Руфь положила в эту корзину. Она с тонну весом!
Молча они сложили продукты на заржавевший садовый столик.
При виде моря у Леа всякий раз оживали впечатления детства — восторг, желание доплыть до горизонта и посмотреть, простирается ли море еще дальше или же падает в бездну. Ей долгое время представлялось, что там, за горизонтом, скатываются огромные водопады, гораздо более мощные, чем Ниагара, которую она в шесть или семь лет увидела в документальном фильме и которая произвела на нее неизгладимое впечатление. На бегу она скинула и бросила на песок легкое платье из искусственного шелка и холщовые летние туфли.
Жану почудилось, что он вернулся на шесть лет назад и видит тот же пляж, ту же девушку в синем купальнике… Но та ли это девушка? Нет, конечно же, нет… Она стала тоньше, в ней гораздо больше от взрослой женщины, она еще красивее, чем прежде! У него вдруг заколотилось сердце. Более шести лет назад они с братом Раулем вот так же смотрели на нее, взволнованные и влюбленные… И сейчас, как и шесть лет назад, она казалась недоступной.
— Хочу слезть! — услышал он голос Пьера.
Любуясь Леа, Жан забыл про мальчика, вертевшегося у него на плечах. Он приподнял его и осторожно поставил на землю. Малыш с радостным криком помчался к Шарлю. Они столкнулись, повалились в песок и принялись кататься, визжа от удовольствия. Жан помог им раздеться. Потом снял с себя одежду и, взяв детей за руки, повел их к воде. Окунувшись, он окликнул Леа, которая быстрым кролем плыла в открытое море.
С виду спокойная, Франсуаза сидела на земле, прислонившись спиной к шершавому стволу сосны, и смотрела вдаль на линию горизонта. Впервые за долгое время она почувствовала физическое и душевное облегчение и могла думать об Отто без той мучительной боли, которая отнимала у нее силы и способность управлять собой. Был ли тому причиной веселый смех сына, доносившийся с пляжа, или тепло начинающегося лета, или, может быть, присутствие рядом простого и молчаливого человека, о любви которого она догадывалась?.. Значит, жизнь еще могла принести ей что-то хорошее?.. С того дня, как холодный металл машинки для стрижки волос коснулся ее головы, Франсуаза не пролила ни единой слезинки, и даже после получения известия о смерти любимого человека ее глаза остались сухими. «Я плачу в глубине души», — думала она. От этого ее боль становилась еще более нестерпимой. И вот она вдруг почувствовала, как теплая влага медленно, не останавливаясь, не иссякая, струится по щекам, будто только теперь она нашла, наконец, долгожданный выход.
Ален Лебрен стоял невдалеке и смотрел, как слезы смывают печаль с лица любимой женщины, возвращая ему первоначальную свежесть. Он подавил в себе желание приблизиться к ней, чутьем влюбленного угадывая, что ей надо в одиночестве выплакать до конца свое горе.
Вернувшись из Южной Америки, Франсуа Тавернье навестил Сару Мюльштейн. Его потряс и переполнил ужасом, жалостью и гневом ее рассказ о пережитом в нацистских застенках. Его не покидало чувство стыда за людей, способных причинять подобные страдания другим. Он повидал на своем веку и отвратительные расправы во время гражданской войны в Испании, и расстрелы из пулеметов женщин и детей на дорогах, и пытки участников Сопротивления, и разбомбленные города, и обезумевших от горя матерей, рыдающих над трупами детей, и сирот, бродящих среди развалин. Все это только укрепило в нем желание достичь мира и сближения между народами. Но слушая эту навсегда искалеченную и опустошенную женщину, он почувствовал, как в нем поднимается могучая волна доселе не испытанной за всю войну ненависти. Если до этого он пытался усмирить в Саре ее жажду мести, то теперь, наоборот, он был готов помогать ей в этой борьбе. Как и она, Тавернье считал, что нельзя оставить безнаказанными такие неслыханные преступления и таких вызывающе наглых преступников, ибо они в большинстве своем были хуже убийц, потому что смешивали с грязью, унижали, презирали, бесчестили свои жертвы. Убивать? Да, он мог это понять, ему самому приходилось это делать. Но унижать? Нет, никогда! Франсуа Тавернье, который считал, что многое повидал на свете, казался циником, любил радости жизни, говорил, что ни во что не верит, и в то же время мечтал иногда о тихом спокойном счастье с такой спутницей, как Леа, — этот Франсуа Тавернье присоединился к делу, начатому Сарой, с тем же энтузиазмом, что и во времена его борьбы в рядах испанских республиканцев и французского Сопротивления или при выполнении его теперешней миссии, официально заключавшейся в поисках перемещенных лиц. И это, несмотря на глубокое убеждение в том, что такому человеку, как он, глупо бросаться мстить за кого бы то ни было, кроме себя самого.