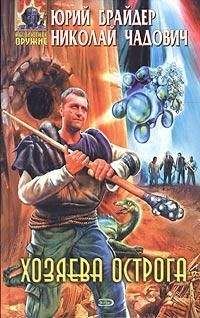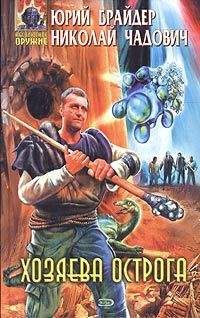Ознакомительная версия.
– А имя?
– Чудэ, если коротко. А себя называет Чудэшанубэ.
Плечи бабы опять чуть заметно вздрогнули. Негромко и ровно, чтобы видела дикующая, что нет ни в нем, ни в казаках никакой боязни, смущения или угрозы, Свешников приказал:
– Подними голову, Чудэ. Раз понимаешь по-русски, подними голову.
Баба помедлила, но, кажется, поняла. И голову подняла. Не сразу, но подняла, хотя лучше б не поднимала. Казаки, увидев лицо бабы, невольно подались назад. Показалось, что жирным углем проведена толстая черта по левой щеке бабы.
Ну, писаные.
У писаных, понятно, лица всегда расшиты: черными черточками, кружочками, разными точками. Но левую скулу, и всю левую щеку, и часть лба бабы Чудэ украшали не кружочки и всякие черточки, а пересекала ее лицо жирная черта, как бы проведенная углем – ужасный шрам, неровно сросшийся. Им левая бровь снесена начисто, а глаз выплыл, как у рыбы. Еще крупные оспины, оставленные болезнью, позоря лоб, забегали на правую сторону, не попавшую под удар ножа, а потому оставшуюся, какой была от рождения – плотной и ровной, как земляная губа гриб.
– Хадибонгэт кэльмэт?
Казаки остолбенели. Голос страшной бабы Чудэ прозвучал как весенний ручей. Голос ужасной бабы никак не вязался с ужасным шрамом на щеке, с выплывшим мутным глазом, с жуткой рябью оспин, густо испещривших щеку и лоб. Невольно ожидали, что голос окажется ужасным – прозвучит хрипло, низко, или наоборот сорвется на визг, приборматыванье.
А он потёк ровно.
Вот ветер в лесу шумит. Вот бежит по вершинкам, спугивает робкого зайца, настораживает лису. Ветер везде, над всем белым светом. Он разные шумы производит – непонятные, пугающие, тревожные. А внизу, под деревьями, меж толстых лесных корней в камушках скрытно, серебряно бьет родничок. Льется, звенит чисто и ровно, не зная шума и бурь, ни от чего не завися -
такой голос.
– Что говорит? – потрясенно спросил Свешников.
– Спрашивает, – суетливо перевел помяс. – Хадибонгэт кальмэт, так спрашивает. Откуда, спрашивает, пришли?
– Скажи, с русской стороны. Зачем ей?
Помяс растерянно развел руками, отворачивался:
– Вот увидела незнакомых людей, спрашивает.
– Анья-пугалбэ…
Чистый голос. Ключ лесной. Щемит от чистоты сердце.
– Что говорит?
– У рта мохнатые, говорит, – помяс испуганно моргнул. – Это она про бороды. Так писаные говорят о русских. Анья-пугалбэ. Значит, у рта мохнатые. Сами на волос не горазды.
Казаки переглянулись.
Вот столько слышали: писаные страшны, согбенны, зверовидны. Лбы у них низкие, глаза злобные. Когда идут, длинные руки ниже колен. И копья деревянные, топоры из реберной гости. А тут -
голос серебряный.
– Еачэги поинэй… Омочэ шоромох…
Послышалось знакомое что-то. Ну да, шоромох… Тонбэя шоромох, вспомнил Свешников. Так вож называл себя… Дикующие прозвали… А тут – омочэ…
– Жалеет тебя, – отворачиваясь, перевел помяс. – Говорит, лицо белое. Совсем белое. Таким тебя видит. Говорит, добр ты.
– Как ей знать?
– У нее глаз такой.
О глазе лучше б не поминал, все видели, какой у нее глаз.
Кафтанов враз надулся:
– Ишь, лицо белое! Лучше спроси бабу, Лисай, знает ли она, кто так по-воровски посек лицо Шохину?
Помяс испуганно оглянулся.
– Погоди, Федька с такими вопросами, – покачал головой Свешников. – Кто она?
– Одулка, – трясясь, объяснил помяс. – Дикующая из юкагирех. Род рожи писаные.
– Одна пришла? Спроси, где родимцы?
Помяс быстро заговорил.
Суетливо вскрикивал. Трепеща, срывал шапку, обнажал голую голову, брызгал слюной, а все ждали – голос услышать серебряный. «Похоже, в разговоре немало от себя добавляет помяс, – ревниво подумал Свешников. – Я так много слов не говорил, так много меня никто не спрашивал». Твердо решил: изучу дикий язык. Пока сидим в сендухе, изучу. Не дело вести переговоры с дикующими через ненадежного толмача.
А голос бабы Чудэ как волшебный ручей.
– Что теперь говорит?
– Теперь – сказку.
– Как сказку?
– Один человек жил, – оглядываясь на бабу и весь мелко дрожа от трусливого усердия, перетолмачил помяс. – Друзей имел, родимцев имел. Друзья, родимцы ходили по халарче, по тундре, потом исчезли. Долго ждал, не пришли. Чюлэниполут, старичок сендушный, съел, наверно, друзей, съел родимцев. Позвал других тот человек. Пошли в сендуху искать пропавших. Так, плача, искали. Так, плача, не нашли.
Подумав, добавил:
– Так, странствуя, умерли.
– Зачем такая сказка?
Помяс заторопился, оглядываясь на бабу:
– Баба Чудэ умом слаба. Сильно болела. Теперь не в себе. Мэнэрик, сильная болезнь. К бабе Чудэ вор Фимка Шохин ночью тайком вошел в урасу. Без согласия вошел. Баба Чудэ, увидев, вздрогнула. Кто был в урасе, все сильно вздрогнули, все выбежали, залезли на деревья, сидели до утра на деревьях. С тех пор – порченая баба. Мэнэрик. Убога. Испугается – может вздрогнуть. Тогда падает наземь, бьется головой, пена изо рта.
– Спроси, кто зарезал Шохина? – снова потребовал Федька Кафтанов, важно, как настоящий прикащик, обнимая руками живот.
– Писаные! – трусливо крикнул помяс.
– Ты бабу спроси!
– Теперь спроси, – ровно подтвердил Свешников. Странно, как хотелось услышать голос дикующей. – Мы ни одной живой души не встретили в дороге, а это ведь много дней. И вдруг кто-то с ножом. Мы идем, мы смотрим по сторонам, а кто-то зарезал Шохина.
– Писаные! – еще трусливей выкрикнул помяс.
– Но ты говорил, что откочевали отсюда писаные.
– Они как ветер! – еще сильней затрясся помяс. – Сегодня здесь, завтра там. Дорог нет, ходят, куда захочут. Вот баба вернулась. Может, с ней кто другой вернулся. Не знаю. Им никто не указ. Они свободны, как ветер, просты, как олешки. Идут, куда вздумается.
– Спроси, где ее родимцы?
Как липкую паутину снимая, помяс провел рукой по лицу. Некрасиво, совсем уже суетливо заговорил с бабой, помогая себе нелепыми жестами. Потом так же объяснил:
– Она не знает.
– Как так?
– Говорит, одна пришла.
Пояснил угодливо, явно лживо:
– Умом не богата. Говорю, мэнэрик. Вздрогнула. Сама не понимает многих слов.
Свешников недоверчиво усмехнулся, прислушиваясь к голосу бабы Чудэ, звучащему волшебно и чисто:
– А теперь чего говорит?
– Загадку говорит.
– Как загадку?
– Посреди подушки нож острый лежит, нож костяной лежит.
– Нож? Как это нож? Это она про какой нож? – вкрадчиво спросил Кафтанов.
– Не тот, не настоящий! – закричал в испуге помяс. – Не о колющем говорит, не об остром. Про думу говорит. Вот, дескать, посреди подушки, сна никак нет, дума лежит – тяжкая, острая. Это не про нож, про думу. Вот все думает и думает баба Чудэ, а никак не додумает.
– Чудэ! – с осуждением выдохнул Елфимка, попов сын. – Имя как у животного, нет таких в святцах.
А Кафтанов выпятил живот:
– Отдай нам бабу, Степан. Вместе с помясом. Врут они, а мы правду узнаем.
Казаки так и подались вперед. Помяс затрепетал. Только баба Чудэ не шелохнулась. Если даже и поняла сказанное Кафтановым, виду не подала.
– Сам правду узнаю, – отрезал Свешников.
Ткнул пальцем перед собой:
– Спроси бабу, Лисай. Если отпущу, приведет родимцев?
Помяс говорил долго, подолгу искал слова. Часто и суетливо оглядывался на Гришку Лоскута, на Федьку Кафтанова. Видно, что сильно боялся их, то и дело срывал с голой головы шапку. Когда закончил, баба спросила серебряно:
– Лэмэнголь?
Даже перетолмачивать не понадобилось. Все так поняли, что удивилась баба словам Свешникова. Наверное, спросила: зачем? Потом, не оглядываясь, опустив голову, сдвинув на лоб лисий капор, почмокала губами, будто все сказала, и медленно тронула с места застоявшегося быка.
– Ты что сказал? Чем спугнул бабу?
– Оставь Лисая! – прикрикнул Свешников на Гришку Лоскута, ухватившего помяса за груди. – Вообще не шуми в сендухе, Гришка. Твое дело – поиск зверя. Бери верхового быка и проводи бабу. Только хорошенько проводи, понял? Пойми, куда едет. Куда она, туда и ты. Но ближе, чем на десять шагов, не приближайся.
– А ты, – кивнул ухмыляющемуся Ганьке Питухину, – тоже езжай. Возьми свежих собачек и езжай по следу на снегу. Я, когда с Лисаем возвращался, странное видел. В одном месте на берегу что-то черное из-под снега. Что-то там такое припорошено снегом. Езжай, Ганька, присмотрись, глаз у тебя острый. Нам надо все знать на этих берегах.
Глухо.
Огонь в печи.
Свет теплый, мерклый.
Свешников прилег на скамью, развел усталые руки.
В медном котле уютно булькало варево, Микуня Мочулин колдовал над котлом. Бросив на пол развязанные вьючные сумы, Ларька Трофимов хозяйственно разбирал казенное борошно:
– А еще три сети-пущальницы на сигов… Кропивные, совсем новые… К ним десять сажен сетей неводных…
– Зачем столько? – пугался робкий Микуня. – Носорукий не утопленник. Его не из реки тягать.
Ознакомительная версия.