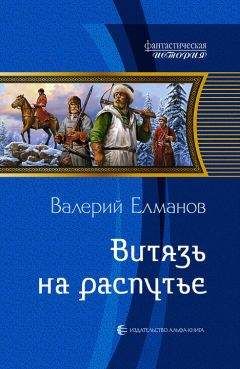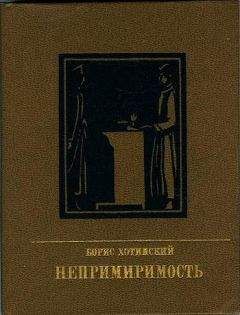Вскоре в Харькове стало известно: вся Левобережная Украина стала Советской. Иосиф Михайлович радовался безмерно.
Он не сомневался, что немалую роль здесь сыграли «червонцы» Примакова. Воображение рисовало Иосифу Михайловичу, как шли, курень за куренем, сотня за сотней, «червонцы» Примакова, готовые преодолеть, смести любую преграду на своем пути.
Железные мундштуки и прочные поводья в сильных и чутких пальцах всадников сдерживали и направляли нетерпеливую силу боевых коней. Железная воля, сила духа и душевная чуткость командиров-большевиков сдерживали и направляли необузданную молодую удаль и ярость червонных казаков.
Червонели ленты в гривах и челках коней, на лихо заломленных смушковых папахах всадников, червонели лампасы, значки на пиках и полотнище штандарта. Червонный цвет — цвет революции. Это цвет пролитой в боях крови, одинаковой у рабочего и крестьянина, у солдата и студента. Одинаковой у русского и украинца, у поляка и еврея. В куренях и сотнях Червонного казачества стремя в стремя с украинскими хлопцами шли проливать свою кровь дети многих народов, для которых Русь веками была и осталась родной Отчизной, единственной и незаменимой.
Диалог сей имел место зимним вечером в доме Юдановых на Левашовской улице занесенного снегом Киева.
Женщины в этот час хлопотали на кухне и потому не присутствовали. Зато в разговоре принимал молчаливое участие великолепный кот Бузук, мудрейший из мудрейших. Многозначительно жмурясь и подергивая усами, он вслушивался в знакомое звучание хозяйского голоса.
— Итак, дорогой Мирон Яковлевич, занесло меня однажды за пределы Малороссии, в так называемые Тульские засеки — широколиственные леса. Тянутся они от низовий реки Упы через всю Тульскую губернию и в давние времена не раз защищали Москву от набегов. Свое стратегическое значение засеки со временем потеряли. И Петр Великий издает указ, по которому все эти лесные угодья отдаются Тульскому оружейному заводу. Тогда же, при Петре, в засеках создаются лесничества, первые в России. Учреждается лесная стража. Любопытно, что до сей поры лесные кордоны там называются «казармами», а лесников величают «солдатами».
— Да, действительно, весьма любопытно.
— Это что? А ведомо ли вам, сколько прославленных наших художников побывало в тех благословенных краях? Репин, Шишкин, Ге… Если бы вы увидели эти пышные кроны вековых деревьев, таинственные заросли кустарников вдоль прохладных оврагов.
— Там, должно быть, и охота знатная?
— Да, дичи полно, сам Тургенев наезжал поохотиться. Но это все присказка, Мирон Яковлевич, сказка только начинается. Есть в Тульских засеках такой уголок… Торжественная тишина царит в нем. Только птицам да грозам летним дозволяется нарушать ее. Там, под сенью ветеранов-дубов, под скромным зеленым холмиком, без креста, без каменного надгробья… там спит великий человек.
— Догадываюсь, Илья Львович. Граф Толстой?
— Он! Лев Николаевич Толстой. Вы знаете, что сказал о Толстом знаменитый Кони? Послушайте, я выписал: «Он мог иногда заблуждаться в своем гневном искании истины, но он заставлял работать мысль, нарушал самодовольство молчания, будил окружающих от сна и не давал им утонуть в застое болотного спокойствия». Великолепно сказано! И очень верно! Я бесконечно благодарен провидению, занесшему меня тогда в Тульские засеки. Мне посчастливилось побывать в Ясной Поляне и даже беседовать с этим великим человеком. И те немногие письма его… я храню их как бесценную реликвию. Я их покажу вам сейчас. Я их мало кому показываю, но вам…
Юданов отпер ящик стола, достал потертый кожаный бювар, вынул из него несколько распрямленных листов, исписанных крупным, с наклоном почерком. Каждый лист начинался одинаково: «Дорогой Илья Львович!..»
— Даже не верится, что это он — мне! Что это его рукою начертано! И вот сегодня, когда его уже нет… Ну что я мелю! Его не может не быть, он есть, он всегда будет!
Илья Львович убрал письма, вынул какие-то страницы, нашел нужное место и прочитал торжественно:
— «Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как Дух, как любовь, как начало всего. Верю в то, что истинное благо человека… в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними… Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее». Вот что ответил Толстой синоду. Вот что такое его вера, его мораль!
— Его мораль, если не ошибаюсь, непротивление злу?
— Да. Он считал, что добро, утвержденное злом, перерождается в новое зло. Ибо зло порождает зло.
— Добро тоже способно породить зло, Илья Львович. Если добро не противится злу, оно неизбежно порождает новое зло. А вы, судя по всему, надеетесь одной лишь воскресной проповедью убедить волка, чтобы он не резал себе на ужин овечку и предпочел поужинать травкой? Но для этого надо, чтобы желудок у волка был устроен так же, как у овцы.
— Но Толстой…
— Я немало читал Толстого. Подставь вторую щеку, не так ли? Однако в своем ответе синоду, на который вы сейчас ссылались, он отнюдь не подставляет второй щеки.
— Ну, не в щеке суть. Главное же… Вот он и мне пишет то, что неустанно повторяет и твердит каждому… — Тут суматошный старик снова полез в стол за письмами. — Вот, пожалуйста: «…счастье в том, чтобы не противиться злу и прощать и любить ближнего». Не мне одному он так писал. А я… я целиком… целиком и полностью разделяю эту прекрасную мысль. И не вижу в ней каких-либо противоречий. Я вижу в ней точнейшее определение понятия счастья, над которым человечество билось тысячелетиями. Дайте-ка иное определение, более точное и всеобъемлющее, попытайтесь. Не сможете!
— Отчего же? У меня, например, свое представление о счастье. Это максимальное приближение к осознанному идеалу.
— Заумно! Заумно, друг мой, и большинству недоступно. А определение Льва Николаевича понятно любому неграмотному мужику. Отсюда и небывалая для России прижизненная популярность. А что творилось на его похоронах!..
— С неграмотного мужика какой спрос, с бедняги? А вот мне, грамотному, в его столь популярном, как вы уверяете, определении счастья ничегошеньки не понятно.
— Что же вам непонятно? В чем усмотрели вы тут противоречие?
— Попытаюсь объяснить. Давайте рассуждать. Скажите, пожалуйста, Илья Львович. Смею ли я считать вас своим ближним?
— Безусловно! Как и я вас. Значит, если вы способны испытывать чувство любви к ближнему… Так ведь и Лев Николаевич призывает к тому же!
— Минуточку! Весь вопрос в том, что Толстой тесно увязывает любовь к ближнему с непротивлением злу. Вот в этой увязке и заключено противоречие. Представьте себе, что некто имярек причиняет зло вам. Вам, которого я люблю. Следуя завету Толстого, я не должен противиться этому злу, которое причиняется вам. Не должен противиться имяреку, а должен позволить ему беспрепятственно причинять вам зло?
— Нет-нет… Ну, право, кто и какое зло может мне причинить?.. Ваш пример звучит несколько… абстрактно, да.
— Еще конкретнее? Извольте! Я не стану особенно распространяться о своем отношении к вашей дочери, к Неле. Вы знаете. Но… не дай бог мне оказаться Кассандрой… но представьте себе на миг такую ситуацию. В нынешних наших обстоятельствах вполне, к сожалению, возможную… Мы с Нелей прогуливаемся по аллеям Александровского парка. И вдруг нам навстречу группа преступных негодяев. Они начинают приставать к Неле с оскорбительными домогательствами. Они намереваются причинить ей страшное зло. Как же в таком случае прикажете поступить мне? Послушаться графа Толстого и не противиться злу? То есть малодушно, подлейшим образом ретироваться и оставить свою невесту, вашу дочь, в лапах этих мерзавцев? Или — еще подлее и отвратительнее — остаться, дабы стать немым свидетелем, но только не противиться?!
— Вы говорите жуткие вещи! Успокойтесь, на вас лица нет!
— Нет уж, Илья Львович! Коли решился начать, доведу до конца. Уж будьте любезны выслушать, как ни задевает это ваши чувства. О своих не говорю… Так в чем тут мое счастье? В любви к ближнему или в непротивлении злу? Совместимо ли такое непротивление злу с любовью к ближнему? Возможно ли совместить несовместимое? Вот где главное противоречие! А вы утверждаете… Нет, Илья Львович! Такого счастья мне не надобно, увольте! Я в подобном случае лишь могу поблагодарить судьбу за то, что остался хотя бы при левой руке, которая способна удержать наган… и барабан его еще не пуст!
— Успокойтесь же, ну успокойтесь, я прошу вас… Не надо таких примеров, не надо! Налить вам заварки? Вы же голос сорвали, нельзя же так.

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)