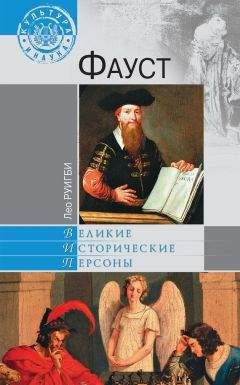В любом пустом окне, в любой зиявшей арке ворот мерещились ему лица, безвозвратно ушедшие в никуда. На каждой мостовой, в канавах — повсюду ему чудилась кровь, пролитая бичующимися. И осенний ураган, все хлеставший над побережьем, приносил с собою щелканье и треск ремней, вызывал бешеную ярость, прямо-таки ужас перед временем (на самом деле — перед вечностью). Это была неслыханная издевка: город, вероятно, только и выжил, пораженный в самую сердцевину чумной заразой, чтобы лишить разума человека и врача. Десятки, сотни и тысячи людей исчезли, унесенные моровой язвой. Как совершенно уж никчемную мякину или дерьмо, унесла смерть эти жизни. Чума и бичеватели собрали страшный урожай. Они одержали победу, а он сам — хоть и сумел выжить — потерпел поражение. Целый день Нотрдам бродил по улицам Монпелье, выглядевшим как после черной вакханалии, и боль терзала его. И как раньше он проклинал смерть, так теперь слал проклятия своей прозорливости. Он набрел на осиротевший кабак, шатаясь, спустился в подвал и внезапно с хохотом выдернул пробку из ближайшей бочки.
Первая кружка вина почему-то отдавала привкусом крови, но уже вторая милосердно сняла поднявшуюся к горлу тошноту. В желудке разлилось умиротворяющее тепло. Мир отступил назад в трепетном мареве, тусклая пелена спустилась на его мысли, отделив от реальности. Третью кружку он уже вовсю смаковал и посасывал, как младенец материнское молоко. Шаг за шагом Мишель отключался; вскоре он уже забыл про Монпелье, не зная даже, день или ночь на улице. Каменные своды растворились в туманном кружеве, и только извинь[6] соединяла его с жизнью.
Сознание плутало в хмельном гуле. Последняя мысль мелькнула в голове, прежде чем сомкнулась тьма: что он теперь спасен, поскольку больше не способен ничего вспомнить. И тогда ночь распластала над ним свои крыла…
Пробуждение и лихорадочное возвращение в мир было ужасно. Ледяной, кисловатый винный перегар, боль, отвращение. Тошнота. Едва он поднялся, из глотки под ноги брызнула горькая струя. Колющая боль и спазмы в желудке заставили его подумать о горловом кровотечении. Но едва боль стихла, Мишель ощупью нашел кружку, выдернул пробку из бочки и заново принялся накачивать себя. Только одно желание, одна жажда — снова погрузиться в спасительную завесу тумана. Когда же тошнота снова подкатила к горлу, он выблевал струю, а с нею и оставшиеся мысли, после чего полностью вышел в алкогольный астрал…
Дни и ночи шли чередой в бессознательном оцепенении. В конце концов наступил такой момент, когда после пробуждения и значительной порции вина сухой горловой спазм не исчез. Бочку он оставил открытой, а сил заткнуть ее у него не было. Разбитый телом и душой, Нотрдам тщетно пытался заткнуть отверстие бочки хоть чем-нибудь. Он задыхался, поминал черта, он скреб бочку и барабанил по ней, наконец в изнеможении рухнул на пол. И на этот раз потерял сознание не от вина, а от того, что отравленные клетки мозга задыхались без кислорода.
С раскалывающимся черепом, шатаясь, он встал на ноги и уставился на себя, покрытого грязью и блевотиной. Его тело набухло и заживо разлагалось. Под ногами шмыгали крысы, десятки острозубых тварей сосали, чавкали, задыхались и извергали снова все, что поглощали. Они барахтались в этом дьявольском всемирном потопе, и на кипучих гребнях гноя плясали бичующиеся, драконовы исчадия. Нострадамус от боли закричал, и никакого облегчения не почувствовал он после крика.
Последняя борьба с самим собой, что-то вырвалось на все стороны Вселенной… Вслед за этим исчезли стужа, тьма кромешная, страшная бездна, потусторонний ужас. Внезапная остановка в предчувствии нового тепла, воскрешающий луч света… Две руки, мягкие, как олива, поддерживали его… Десять божественно женственных пальцев подхватили его, укрыли от сглаза, омыли, укутали, соединили черепки разбитого сосуда, исцелили. Исчезли бичеватели, крысы, гнойное море. Тело — невредимое снаружи — лежало, скорчившись, на испачканных каменных плитах. Из безмолвия вопившей безбрежности душа его возвратилась в тело. Когда Мишель де Нотрдам пришел в себя и раскрыл глаза, он был надежно защищен женскими руками.
Не богиня, но бедная изможденная женщина, одна из тех, на чьем лице, как и на лице Мишеля, страдание оставило немало морщин. Такой необыкновенно близкой показалась ему женщина, как будто он прошел с ней, рука об руку, сквозь тысячу ночей. Он еще этого не осознал; она прижала его к своей груди, не обращая внимания на грязь, и произнесла:
— Как долго я тебя искала! И какой ценой нашла! Ты спас мне жизнь. Я поняла это, когда в тот день чума отступила и я очнулась у тебя на руках…
Женщина преподнесла ему неслыханный дар. По крайней мере, спасенная человеческая жизнь должна была служить Нострадамусу оправданием, и это искупало все остальное! Все имело свой смысл. Семя жизни одолело трясину, потому что из отчаявшейся человеческой воли к жизни вырос в конце концов плодоносящий ствол. Теперь произошло что-то напоминавшее пиренейскую зиму. Он не был отвергнут и в этот раз. После глубочайшего ужаса он снова обрел почву под ногами, поскольку это была настоящая жизнь, поддержавшая его своими обнаженными руками. И хотя его еще трясло после жуткой горячки и видений, он нашел в себе силы прошептать:
— Ты сказала, что я помог тебе? Я верю… но теперь помоги мне! Уведи меня отсюда…
Белокурая женщина кивнула головой. Она не стыдилась поддержать ближнего своего в падении и помочь ему начать все сначала. В доме женщины, потерявшей во время чумы мужа, троих детей и грудного младенца, Мишель обрел покой. Бенедикта — так звали хозяйку — обмыла его и накормила. Она сидела рядом с ним и гладила его руку, пока Нотрдам не погрузился в глубокий спасительный сон. На следующий день, когда почувствовала, что лихорадка отпустила его, она легла рядом с ним: на ее груди Мишель нашел тепло, в ее лоне — тягу к жизни.
Наутро он отважился выйти на улицу; дойдя до площади, утвердился в реальности всего происшедшего, в том, как глубоко поразила чумная зараза город, и вновь принялся помогать, насколько хватало сил, больным и умирающим. Мало-помалу в Монпелье стали просачиваться слухи о том, что Сен-Реми на этот раз чума обошла стороной. В университете, наоборот, ничего утешительного ему не сообщили, кроме того, что о возобновлении занятий не может быть и речи. Но что если у него есть желание работать в качестве врача, тогда он может отправиться на запад или на север, где все еще бушует зараза. Нечто подобное предложил ему обдумать и спасшийся старый Гризон. Бенедикта предложила другое:
— Ты бы мог навсегда остаться в моем доме, — сказала она после его дня рождения, когда Мишелю исполнился двадцать один год, под Рождество. — Мы вместе могли бы попытаться начать жизнь заново, ты я я…
В первый момент Нотрдам готов был согласиться. Памятуя о том, что она сделала для него, он даже поторопился ответить «да». Но позже подумал, что снова придется видеть бичующихся, вдыхать вонь гнойных нарывов. В мыслях он снова и снова возвращался в больницу и там опять держал на руках белокурую женщину. Хорошенько подумав, Мишель притянул женщину к себе и ответил:
— Ты мне нужна! Я знаю, что ты меня любишь, и прошу тебя — не удерживай меня!
Потерявшая детей вдова, возможно, и без того уже обо всем догадывалась.
— Когда? — спросила она.
— Утром, — тихим голосом ответил Мишель.
Она еще раз приняла его в свое жаркое лоно и вернула ему свободу, которая должна была стать для него новым испытанием.
* * *
В первый год своего долгого странствия Мишель чуть было не попал в беду. Едва чумная зараза угасла в Монпелье, как с новой силой вспыхнула в заболоченных краях морского побережья. И опять были предсмертные хрипы, щелканье бичей. Ярость его была сильнее страха перед чумой.
— Безумцы! — обратился он к бичующимся. — Думаете, что таким способом вы избавляете мир от страданий?! Образумьтесь, глупцы! Помогите врачам в больницах! Очистите хворых! Только так вы сотворите богоугодное дело. Кумира, которому вы молитесь, не существует! Поймите это! А если уж вы не горазды на такое, тогда эту истину в вашу тупую башку втемяшат дубиной!
Он метал громы и молнии, стараясь удержать богохульствующую толпу, пока она готовилась наброситься на него. Но прежде чем начаться настоящей свалке, Мишель почувствовал, как его обхватили чьи-то руки, и великан, сграбаставший его в охапку, потащил его прочь и, втолкнув в сводчатые ворота, поволок наверх по узкой крутой лестнице. На крытом балкончике он представился городским врачом Нарбонна Клодом Жироном.
— Я рад, — продолжал он, — что небо послало именно тебя! Ведь ты выступил против суеверия, даже если и поступил несколько легкомысленно. Еще одно или два мудрых изречения с твоей стороны, и тебя бы разорвали в клочки. Прости мне мое вмешательство! Думаю, ты слишком хорош, чтобы твой труп бросили в сточную канаву! Ты, случайно, не с того же факультета, что и я?