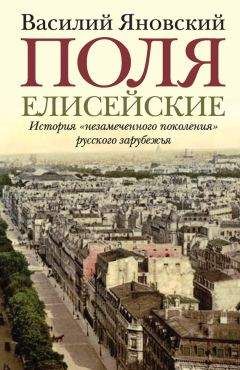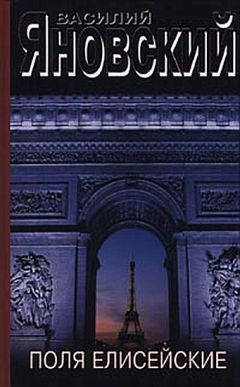Вот там, в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного мужского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на «педалях» в четыре, пять дней – благо подвернулся толковый спутник.
Дороги Франции до колдовства хороши летом; но все же карта Мишлен пестрит от стрелок «крутых подъемов». Этот пробег на велосипедах – и не для осмотра готических замков – был последним спортивным упражнением профессора Федотова. В Нью-Йорке он вскоре заболел коронарным тромбозом, от которого впоследствии и умер.
Там, в Пуатье, мы опять попрощались; Федотов побежал в винную лавку и вышел оттуда, неловко вертя в руке, сам ей удивляясь, какую-то необычайной формы пузатую бутылку ликера. Нина делала нелестные замечания, очевидно, не одобряя покупку.
Они решили отправиться на запад, к Ла-Маншу, а не на юго-запад, где обосновался за Бордо Фондаминский. Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды – к самому оплоту будущей атлантической стены.
Эта наша встреча происходила точно в бреду. Да и вся Франция в эти сказочные июньские дни походила на злой вымысел. Шарль де Голль мучительно и медленно перерождался из захолустного полковника в легендарного принца.
А кругом толпа, высохшие горожане, старики, дети – ночью, на земле, на соломе, на траве. С близкого шоссе слышен шорох библейской саранчи: это миллионы обывателей брели дальше на юг, неся свои чемоданы и артриты.
Кто помоложе, покрепче, тому было легко: топтал отстающих и пробирался вперед. Утешительно, конечно. Надо только хорошо рассчитать, так, чтобы наибольшие социальные, политические и геологические перевороты падали на тот период жизни, когда мы в расцвете своей биологии, физиологии и духа.
Эти недели, несмотря на все лишения, остались в памяти многих из нас как лучшая пора отпуска, каникул, освобождения от городского плена. Закусывая у фонтана галло-римской эпохи, попивая теплое винцо в обществе находчивых и понятливых южан, нетрудно было еще благословлять юг, Францию, жизнь! Но людей, вынужденных проходить через такого рода испытания в Польше, Бельгии или Маньчжурии, я воистину жалею. Какая несправедливость в судьбе народов, даже если предположить, что основные грехи – жадность, глупость, похоть, зависть, гнев – те же приблизительно повсюду.
В самом деле, может ли что-нибудь заменить пейзаж латинской Европы, ее климат, позволяющий не только заниматься живописью круглый год, но и собирать два-три урожая картофеля? (В таких землях не может быть хронического, регулярно повторяющегося голода, как, помните, в России, все равно – татарской, царской или социалистической.) А снег и метель оставим для зимнего спорта: месяц в году. Ведь сама Татьяна, владевшая несколькими сотнями душ, все-таки не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы; есть у меня думка, что если бы ей удалось вырваться и очутиться «под небом вечно голубым», то она, пожалуй, стала бы невозвращенкой. (Пушкину безоговорочно отказывали в заграничном паспорте; Гоголю и Тургеневу в этом смысле повезло.)
А через год Федотовы прикатили из Парижа в Марсель получать американскую визу, оттуда они мне прислали длинное письмо в Монпелье, давая разные практические советы и обещая свою помощь.
Нужные пароходы шли редко. Елена Николаевна очень беспокоилась за судьбу мужа. Так что Федотов сел на первое подвернувшееся судно и таким образом сразу попал в лагерь в Африке (под Дакаром).
Моя жена, бывшая в то время в Париже, рассказывала мне потом, что Фондаминский опять уже мотался по разным собраниям и довольно часто посмеивался над незадачливым профессором:
– Вот Федотов убежал отсюда в Африку и там попал в лагерь! Подумайте, в Африке! А мы еще здесь, здесь еще можно работать!
Когда я с семьей добрался наконец до Нью-Йорка, в июле 1942 года, на пристани нас приветствовала Е.Н. Федотова, вручила мне 20 долларов, собранные среди друзей; в этот первый год второго изгнания мы еще часто встречались. Но особой близости уже не было. Точно всем было стыдно за какие-то лишние слова, сказанные впопыхах. А слов чужих и лишних произнесено было много.
В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен… Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы. Тут были свои бонзы и обер-офицеры, требовавшие уважения и даже почитания. Литературный стиль, здесь царствовавший, понаслышке напоминал Ригу, а теперь хлынули «европейцы», и, разумеется, число обиженных или недовольных становилось с каждым днем больше.
Георгий Петрович, конечно, примкнул к «Новому журналу», но не было Фондаминского, и Федотов должен был себя там чувствовать одиноким, как белая ворона.
Статьи Федотова, его выступления меня беспокоили. Я выехал из Франции, когда раздавались первые артиллерийские залпы по Сталинграду и вся Европа опять прислушивалась к шуму битвы на поле Куликовом. Все знали: там теперь решается судьба гуманистического наследства. Сталин, не желая этого, защищал Иерусалим, Афины и Рим.
У марсельского консула я встречал беженцев, с ужасом и надеждою осведомлявшихся у меня:
– Как вы думаете, отстоят Севастополь?
Случилось так, что американская администрация, опасаясь провокаций или шантажа, ввела новое правило, по которому лица, родившиеся на территории, уже захваченной немцами, не могли получить визы. В результате пышно расцвели фабрики фальшивых метрических и других свидетельств. Так что австриец, осведомлявшийся, отстоят ли русские Крым – место его нового рождения, – был кровно заинтересован в утвердительном ответе.
Не только Севастополь или Россию отстаивали тогда советские народы, но все, что было в мире униженного или преследуемого. И молитвы святых, равно как слабых, грешных жертв или героев, были тогда с Россией, за Россию, опять святую, великую, в последнем стремительном броске всегда исправляющую свои ошибки, искупающую вину в братском союзе с просвещенными державами Европы.
Так было во времена татар и Карла Шведского, шедших покорять весь мир. То же случилось с Наполеоном и дважды на нашей памяти против немцев. Всякий раз Россия, необъяснимым чудом подстрекаемая ангелом или архангелом, в последнюю минуту выпрямлялась и занимала свое ответственное место рядом с традиционно христианскими, гуманитарными народами. (В частных и более мелких случаях князья, цари и комиссары, увы, грешили, и даже очень.) И это повторится опять, завтра, в решительной схватке с китайцами или марсо-венерианскими полчищами…
Ночью я шагал по безлюдным улицам Монпелье, подметаемым резким морским ветром. Я возвращался из кафе, где играл в шахматы с испанскими эмигрантами. Восток прояснялся и, казалось, вспыхивал от многочисленных взрывов тяжелой артиллерии. Я почти ощущал эти далекие удары, а от воздушных воронок начинал задыхаться. Чудилось в небе: вот огромная, вставшая на дыбы кобылица, отбивающаяся передними копытами от стаи волков, огрызающаяся и жалобно ржущая в снежной степи… она осторожно пятится к Волге, а лицо кобылицы прекрасно и из ноздрей вырывается пламя!
В таком настроении мы отплывали в Новый Свет. А Федотов позволял себе оставаться при особом мнении, как в пору Мюнхена. Впрочем, спор шел не о настоящем, где нам предстояло бороться и во что бы то ни стало победить – этого он не отрицал; расхождения начались в связи с будущим – гадким и постыдным, по утверждению Федотова.
Нам представлялось, что после такого светлого подвига в паре с Европою что-то неминуемо тронется с места, сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией.
Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе конец западной культуре!
По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию – пожирала часть Европы.
Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и даже вражды.
Мы с Георгием Петровичем жили на одной улице, Вест, 122, рядом с теологической семинарией, где он преподавал. Он был уже очень болен и часто отлеживался или отсиживался неделями в своей комнатушке, похожей на келью, только с остатками вечного неприбранного чая.
К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они все быстро подружились. Федотов часто выводил И., протежировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал.