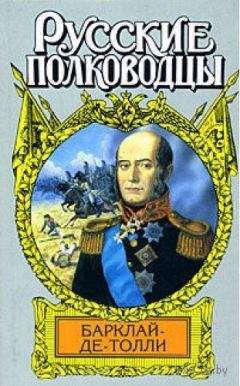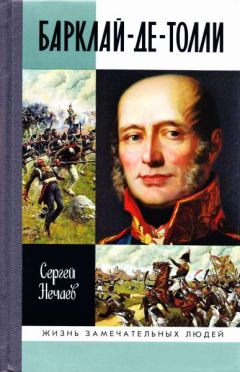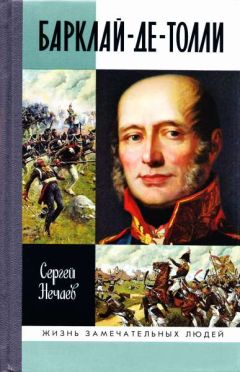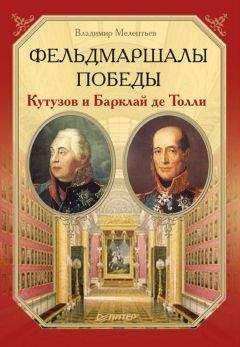Лагерь еще строили, а уже был он окопан рвом, над коим перебросили мосты, учинив перед ними кордегардии, впереди которых, для вящей безопасности, учредили блок-посты — самые близкие к неприятелю пункты для наблюдения за ним.
Наконец, огородившись рогатками — деревянными крестовинами, с заостренными верхними концами, — завершили устройство лагеря по тем канонам, коими руководствовались еще их предки, называя такие бивуаки воинскими станами.
Двухбатальонный егерский корпус Ангальта разместился в версте от большого лагеря, поближе к замку Гассан-паши, стоящему у самого лимана. В задачу егерей Ангальта входило блокировать размещенный в замке гарнизон. Лагерь егерей был уменьшенной копией армейского стана, а из-за того, что в корпусе было много новобранцев и многие офицеры — в их числе и Барклай — еще не нюхали пороху, создание регулярного бивака оказалось для них делом весьма непростым.
Казалось бы, экая недолга разместиться на просторе полутора тысячам здоровых мужиков, у которых есть и топоры и лопаты? Ан нет, и здесь понадобилось немало житейской смекалки и здравого смысла, потому что в степи, кроме камыша да глины, ничего не было.
И, наблюдая за тем, как ловко — будто всегда только этим и занимались — егеря месили глину и обмазывали ею привезенный с лимана камыш, Барклай понял, почему называли на Руси строителей и инженеров «розмыслы и хитрецы».
И на сей раз снова убедился, сколь талантлив русский солдат, умеющий выйти из самых затруднительных ситуаций.
На первом же военном совете Потемкин произнес фразу, которую потом целых полгода ставили ему в вину: «Очаков — ничтожная крепость, она не выдержит и недельной осады».
Уверовав в справедливость сделанной им оценки, Светлейший стал руководствоваться ею, неспешно производя действия, которые сначала никому не казались ошибочными, но с течением времени поставили в тупик, ибо было не ясно, что предпринимает главнокомандующий — блокаду крепости или же ее осаду?
Меж тем и другим действом большой разницы не было: начиналось с того, что крепость лишали всех связей с миром, перекрывая дороги и не давая получить ни одного сухаря и ни одного патрона.
Но почти сразу стало ясно — блокаду установить невозможно, ибо турецкие корабли легко проходят к Очакову из-за малочисленности русского флота и благодаря мастерству своих капитанов, многие из которых были в свое время и неплохими контрабандистами.
Стало быть, нужно было переходить к осаде, то есть дополнить частичную блокаду другими, более действенными мерами, а именно подвести к стенам апроши — зигзагообразные окопы, начать подкоп под стены подземными ходами — сапами, предварительно поставив вокруг осадные батареи.
Однако Потемкин ограничился тем, что установил на своем правом фланге две батареи, насыпав два невысоких плоских холма, на которые и втащили четыре мортиры и четыре пушки. И дальше ждали, когда у бусурман кончится провизия и порох, после чего и никакого приступа не потребуется. Однако время шло, батареи время от времени постреливали, бусурмане отвечали тем же, а дело с места не сдвигалось.
А в русском лагере между тем начались болезни — кровавый понос и болотная лихорадка. Избавиться от этой заразы было так же невозможно, как и от комаров, разносящих малярию, и от мух — переносчиков дизентерии.
Заболевших оказалось намного больше, чем ждали: чуть ли не треть армии слегла в две недели — видать, недаром и ту и другую немочь причисляли на Руси к двенадцати сестрам Иродовым.
Случилось все из-за сущего пустяка — гнилую воду из лимана пили некипяченой, а уксуса, обезвреживающего сырую воду, захватить с собою не удосужились.
Подкрепления подходили медленно, ибо формирование новых частей сильно затягивалось из-за нехватки рекрутов, которым до Новороссии надобно было добираться не неделями — месяцами.
Ко всем огорчениям вскоре прибавилось и еще одно: в конце июня Швеция объявила России войну, и, стало быть, следовало обходиться своими силами, так как Санкт-Петербургская, Лифляндская и Финляндская дивизии попадали в столь же трудное положение, как и армия Потемкина. По большому счету с Очаковым нужно было кончать как можно скорее, да пока ничего не получалось — янычары дрались отчаянно и о капитуляции не помышляли.
В середине июля Потемкин склонился к мысли, что осаду продолжать следует, но только более энергично, а о штурме из-за нехватки сил и средств пока и не заикаться: не по себе древо рубить — только людей смешить.
Меж тем горячие головы судили иначе: нечего ждать у моря погоды, надобно приступать к Очакову, ибо известно: медлить — дела не избыть.
А тем временем пришло известие, что 14 июля у острова Змеиный, в старину называвшегося Фидониси, произошло морское сражение между русской Севастопольской эскадрой адмирала Войновича и турецким флотом Гассан-паши. Сражение происходило всего в ста девяноста верстах от Очакова, и потому о нем узнали вскоре. Тридцать шесть русских кораблей, из коих больших кораблей — линейных и фрегатов — было лишь двенадцать, обратили в бегство вражеский флот, насчитывавший шестьдесят вымпелов, причем больших кораблей было у турок двадцать восемь.
Стало известно и имя героя этой баталии — Федора Ушакова, который, командуя авангардом эскадры, сошелся в поединке с турецким флагманом и, едва не утопив, заставил его спасаться бегством, и он увлек за собою весь флот. Повторяли и имя командира флагманского линейного корабля «Святой Петр» Дмитрия Сенявина, который был в самом центре этой дерзкой и смертельно опасной атаки. Победа под Фидониси воодушевила всех, особенно сторонников действий энергичных, наступательных, тем более что сразу же после того, как стало известно о морской виктории, под Очаков прибыл генерал, почитавший наступление матерью победы. Это был Суворов. И снова собрал Светлейший военный совет. К назначенному часу пришли к нему все его генералы и многие полковники.
Они шли на совет в сопровождении адъютантов, непременно несших за своими начальниками либо большие портфели, либо папки с бумагами и планами. И только два военачальника не загружали своих адъютантов ничем — генерал-аншеф Суворов и атаман Платов.
Обычно, когда члены военного совета скрывались за дверью шатра главнокомандующего, забрав документы у сопровождавших их молодых офицеров, те начинали свой собственный военный совет. И порою казалось, что именно здесь, в адъютантской палатке, и проходит истинное совещание стратегов, высказывающих мысли не менее верные и глубокие, чем в соседнем шатре у Светлейшего.
Поручики и капитаны в спорах этих выказывали столько глубокомыслия и так блистали знанием военной истории, что им могли бы позавидовать те, чьи имена повторяли диспутанты, чаще всего ссылаясь на примеры и опыт Юлия Цезаря, Александра Македонского, Густава Вазы, Евгения Савойского, Анри Тюренна и Фридриха Второго — величайших полководцев в истории.
А имена великих фортификаторов, признанных магов осады и обороны крепостей Вобана, Кормонтеня и Монталамбера не сходили у них с уст.
И объяснялась столь изрядная эрудиция молодых офицеров тем, что все они были образованы получше своих отцов, дядюшек и тестей, с детства они обучены были тому, о чем их генералам довелось узнать лишь на практике, а кроме того, знали господа адъютанты и по нескольку языков, паче же прочих — французский, на коем и писались труды по фортификации. Происходило же все сие по одной и той же генеральной причине — господа адъютанты почти все были либо сыновьями, либо зятьями, либо племянниками членов военного совета, но опрометчиво поступил бы тот, кто подумал о них дурно — нет, они, как правило, являлись образцовыми офицерами и собственное доброе имя и честь рода своего берегли пуще зеницы ока, ибо и то и другое сопрягали они с многовековой фамильной честью.
Барклай был одним из немногих адъютантов, не связанных узами родства или свойства со своим начальником, но и он тоже гордился им, и отсвет ратной славы и доброго имени принца Ангальта лежал на нем точно так же, как на адъютанте Кутузова — племяннике его Василии Бибикове или на адъютанте Суворова, тоже племяннике, — девятнадцатилетнем Алексее Горчакове.
Именно с Горчаковым двадцатисемилетний Барклай сошелся ближе, чем с другими молодыми людьми, несмотря на огромную в их возрасте разницу. Михаилу нравилось то, что был Горчаков подлинным аристократом. Из рода самого Рюрика, он никогда не кичился своим происхождением и не проявлял высокомерного к другим отношения. Никогда не пользовался он и именем своего знаменитого дяди, а наравне со всеми честно тянул армейскую лямку. Да и как могло быть иначе, если и сам Суворов ел кашу из солдатского котла, спал на сене, завернувшись в шинель, и от непогоды скрывался вместе с племянником-адъютантом в калмыцкой палатке, которую возил за собой со времен усмирения пугачевского бунта?