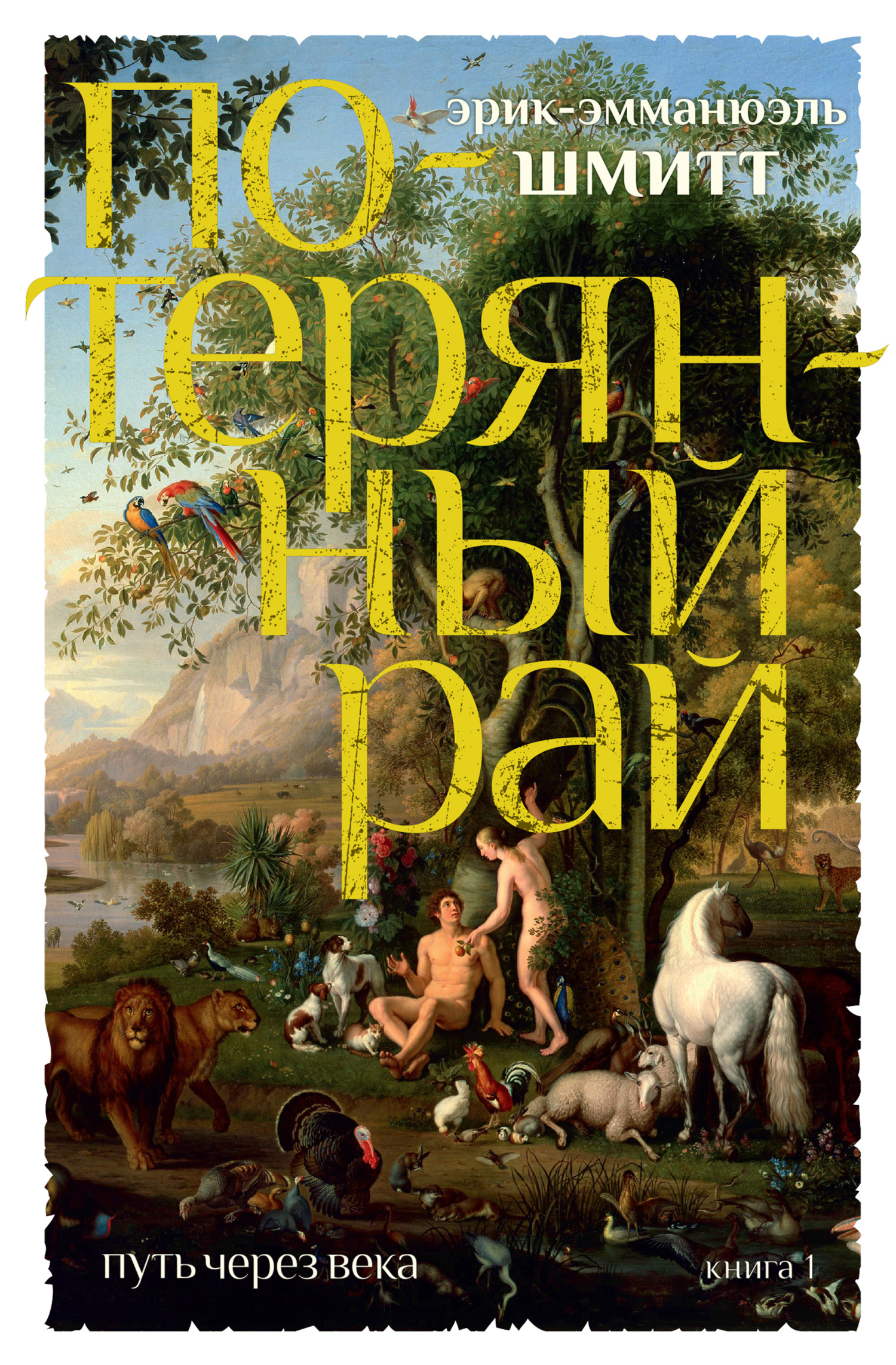видеть их совокупления, когда сбоку от меня взвыла собака. Я крутанулся, чтобы заставить ее молчать, из-под ног выскочил камень, я пошатнулся… и проснулся.
Я был у себя дома.
За стеной скулила собака.
Рядом спала Мина.
Ночь.
Я сел. Что значил этот медведь?
Озадаченный, я снова улегся, думая о последнем эпизоде сна.
В то время мы придавали снам большое значение. Они служили для человека вместилищем непостижимого. Во сне нам являлись Боги, Духи, Демоны и Мертвецы. Днем между ними и нами стояла незыблемая преграда, а ночь распахивала двери, и в них устремлялись духовные сущности. Уши, рот, веки и ноздри – все эти окна отворялись, и начиналось движение внутрь. Каждое сновидение связывало нас с миром, с силами Природы, с Душами. Сны раздвигали наши границы. Солнце ограничивало нас, а ночь открывала нам необъятное.
Во время нашей встречи медведь относился ко мне дружелюбно, советовал следовать за ним, показал, какие наслаждения меня ожидают: лакомства, любовь молодой женщины. Какой же урок мне следует извлечь?
Утром я проглотил кашу, сваренную Миной. Глаза ее сверкали, она приплясывала, посмеивалась, напевала. Уже несколько дней она была по-детски оживлена, а я делал вид, что не замечаю. Она старалась поймать мой взгляд, завладеть моим вниманием. Разве она не понимала, как раздражает меня? Она была частью моего прошлого, но не настоящего. С тех пор как меня покорила Нура, я едва терпел Мину, видел заурядность ее форм, невзрачность ее удивленного личика, никчемность ее разговоров, тусклость ее ума. Теперь, когда я лишился надежды получить вторую жену, первая приводила меня в отчаяние.
Первая и единственная…
Я торопливо вышел из дома.
– Ноам, я должна тебе кое-что сказать, – крикнула она от дверей.
– Потом!
Мысли Мины интересовали меня меньше всего на свете. Озабоченный разгадкой сна, я хотел отыскать Тибора на лесной тропе, где он нередко собирал травы.
Утреннее небо было усеяно мирными легкими розово-голубыми облачками, а лес стоял плотной темно-зеленой стеной. Запахи, свет и птичье пение – все лениво пробуждалось ото сна. Даже река будто не спешила набирать ход.
Из ежевичника вышел целитель, облаченный в свой необъятный плащ со множеством карманов, и тут же помрачнел, завидев меня:
– Мне очень жаль, Ноам. Но я ничем не могу помочь.
– О чем ты?
– Нура… Мне казалось…
– Что?
– Я был уверен, что вы с Нурой… то есть ты…
Я напрягся, сжал кулаки и процедил сквозь зубы:
– Это не важно!
Тибор пробормотал:
– Я думал, что ты хочешь соединиться с Нурой.
– У меня есть жена.
– У твоего отца тоже есть, но это его не останавливает.
– Мой отец – это мой отец. Вождь – это вождь.
Тибор внимательно на меня посмотрел и сказал:
– Прости меня, Ноам. Я вечно усложняю жизнь… Ты гораздо разумней меня.
Я хмуро кивнул. Мне хотелось, чтобы он умилился моей покорности, чтобы вся деревня восхваляла мою угодливость. Я повинуюсь отцу, чего бы он ни потребовал. Если я облеку свою горечь благородным самоотречением, если украшу ее добронравием, я сохраню лицо, останусь прежним Ноамом, избегу унижения и отчаяния. Иначе как мне вынести невыносимое?
Тибор стиснул мне запястье:
– Ты проявляешь великую мудрость, Ноам.
Да-да, великую мудрость! Я купался в своей добродетели, наслаждался своим героизмом, упивался своей жертвой. Величайшая мудрость…
Но другая часть моего «я» противилась. Я ненавидел отца за то, что он взял в жены Нуру, ненавидел Нуру за ее согласие, ненавидел Тибора за его покладистость, ненавидел Маму за ее покорность и себя ненавидел – за преданность отцу, за смирение, за малодушие, за проигрыш.
Мудрость… Да какая мудрость? Я проклинал свою мудрость. Она сводила меня с ума.
Я молча шел рядом с Тибором, стараясь успокоиться. Потом пересказал ему свой сон и попросил объяснить.
– А медведь тебе снится впервые?
– Нет.
– В жизни ты встречался с медведем?
– Часто. Видел его издалека. Не убегал, а любовался им… Медведь восхищает меня. Мне никогда не приходило в голову, что он может напасть. Когда я был маленьким, Панноам бранил меня за это безрассудство.
– Объяснение очевидно: медведь – твое тотемное животное.
– Вовсе нет! Тотем нашей семьи – волк.
– Отцовский тотем, но не твой.
– Но у меня не может быть другого тотема!
Тибор остановился и крепко стиснул мое плечо:
– Не думай о себе лишь как о сыне своего отца. Ты – отдельный человек.
– Что это значит?
– Ноам и Панноам не одно и то же.
– Скажи яснее.
– Ноам – это не часть Панноама. Не кусок Панноама. Имя, данное тебе отцом, стало для тебя ловушкой.
– Ловушкой?
Я совершенно не понимал, на что Тибор намекает. Он вздохнул и сменил тему разговора:
– Если твой тотем – сильный одинокий медведь, ты обладаешь его свойствами [7]. Силу ты уже показал, вся деревня тому свидетелем: бегаешь ты быстро, плаваешь отлично, целишься хорошо, да и дерешься великолепно.
– Но одиночество? Разве я одинокий?
– А это для тебя новость. Медведь пришел к тебе ночью сообщить об этом – значит теперь тебе полезно это знать…
Я поник. Ведь верно, брак Нуры и моего отца так меня печалил, что делал одиноким.
Я посмотрел в глаза Тибору:
– Но разве можно страдать от одиночества среди своих?
Он задумчиво проговорил:
– Таков удел человека, который думает сам.
По его затуманившемуся взгляду, по дрожи его голоса я понял, что он говорил не только обо мне, но и о себе.
Как он отличался от отца! Панноам состоял из решительности, распоряжений, поступков, а Тибору было свойственно задавать вопросы. В этот миг я почувствовал наше сходство.
– Твое животное тоже медведь, Тибор?
Он улыбнулся:
– Мое животное – сова, Ноам.
– Но ведь ты не бодрствуешь ночью!
– Сова причастна другим мирам, миру невидимого, миру Богов, Духов и Мертвых. Подобно сове, я ищу скрытое от многих, я снимаю покров видимого.
– Хороший у тебя тотем – сова! Он делает тебя счастливым, не то что одинокий медведь…
– Разве можно быть счастливым, лишившись иллюзий?
На этих словах Тибора мы расстались.
Я спустился к Озеру. Небо светлело. Деревня скрылась из виду и являлась мне своими шумами: мычаньем, квохтаньем, блеяньем, а еще звуками, производимыми теской камня, забиванием свай, заточкой кремневых орудий, мукомольем, растиранием гончарной глины, глухим потрескиванием дубимых кож, а еще указаниями, которыми перебрасывались ремесленники, детскими криками и женской болтовней.
Я дошел до главной улицы и направился к поляне, на которой мой отец вершил суд. Панноам сидел под Липой с представителями двух семей и разбирал дело о похищенной дичи.
Я смотрел на него