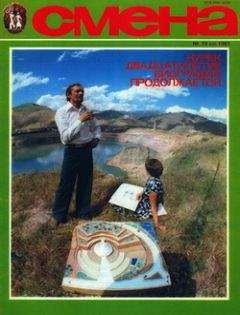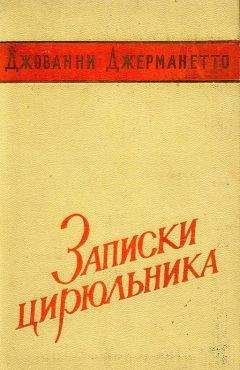— С кем же, если не секрет? С вашим либреттистом синьором Стербини?
— Нет, не с ним.
— А с кем же?
— С одним брадобреем.
— С кем? С кем?
— Брадобреем, который был нынче у меня в гостинице. Прекрасный знаток оперы. Кстати, ваш первый трубач.
— И что же он?
— Поразился, как и вы.
Герцог отпер шкаф, подделанный под книжный, и достал бутылку вина и два венецианских бокала. Молча поставил один перед композитором, другой — перед собою. Откупорил бутылку, налил багрово-красного вина.
— Это крестьянское, маэстро. Вам понравится. Я не люблю, когда меня огорошивают. Поэтому я хочу чуточку подкрепиться. Ваше здоровье!
Они выпили. Россини похвалил вино. Герцог снова налил.
— Теперь я слушаю вас. Какое же либретто вы предлагаете?
Было неприлично сидеть, когда старший стоит, и Россини поднялся.
— Значит, мы твердо уславливаемся в одном, — сказал он, — я буду писать оперу-буффа. Насколько возможно веселую, соответствующую современным представлениям об опере.
Он замолчал. Герцог ждал продолжения речи маэстро.
— Синьор герцог, я хочу, чтобы вы обратили внимание на мои слова.
— Какие?
— Соответствующую современным представлениям об опере. Вы с этим согласны?
— Еще бы!
— Но это не все. Соответствующую величественности этого римского театра, его размерам, в первую очередь.
— Как это понимать?
— Очень просто: требуется новый подход к опере, и в смысле фабулы и в смысле усиления хорового начала.
Герцог пригубил вино:
— Я слышу особенно четко слова «новый», «современный». Как это понимать в данном случае?
— Только в прямом смысле. Искусство не может жить только с оглядкой на традицию. Требуется новое, все время новое.
— Ладно. Допустим. А как с либретто? Оно имеется?
— Речь идет о пьесе синьора Бомарше.
— О какой?
— Той самой: «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность».
Герцог не совсем понимает, о чем речь. Он спрашивает:
— Вы говорите об опере Паизиелло?
— Нет, о моей, которую хотел бы назвать так: «Альмавива, или Тщетная предосторожность». Ибо не хотел бы в какой-либо мере задевать чувства страстных поклонников Паизиелло, не хотел бы делать что-либо, смахивающее на противопоставление. Это было бы не к лицу нам. И в то же самое время, как уже говорил, хотелось бы учесть новые достижения оперного искусства, современные вкусы и величественные размеры театра. Я полагаю, что это вполне естественно.
Герцог думал. У него в шкафу лежало готовое либретто. Он не предполагал, что маэстро сделает свое предложение, притом столь дерзкое. Этот молодой человек, несмотря на все оговорки, — на хитроумные защитные оговорки, — решил потягаться с самим Паизиелло. В этом есть нечто привлекательное, как во всяком азартном предприятии…
— А если я попытаюсь отговорить вас? — сказал герцог.
— Я тут же откланяюсь!
Герцог усмехнулся:
— Этот пируэт соответствует характеру Виваццы?
— Вполне!
Герцог снова налил вина. Поднял бокал.
— Вы молоды, — сказал он. — Вы имеете все основания для дерзких поступков. Мне по моим годам полагалось бы сделать все, чтобы отговорить вас от опасного шага… Но… — герцог подвинулся в сторону маэстро, — но отговаривать не стану. Более того: я принимаю ваше предложение. — И он протянул бокал.
Они чокнулись.
— В случае провала, синьор Вивацца-младший, я сбегу куда-нибудь подальше.
— И я! — воскликнул Россини. — Но скажу вам: едва ли!
— Браво, Вивацца-младший!
20 февраля 1816 года на подмостках римского театра «Торре ДʼАрджентина» началось мировое шествие оперы-буффа «Севильский цирюльник». В письме к прекрасной певице Изабелле Анджеле Кольбран, своей будущей жене, Джоаккино Россини писал из Рима: «Мой „Цирюльник“ с каждым днем пользуется все большим успехом… Серенада Альмавивы распевается здесь по ночам на всех улицах, большая ария Фигаро… стала коронным номером всех басов, а каватина Розины… — вечерней песней, с которой каждая красотка ложится спать…»