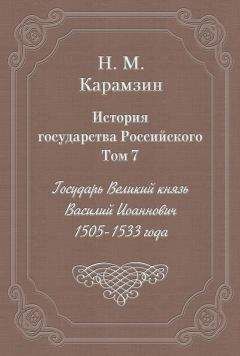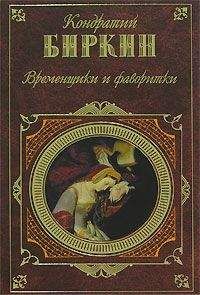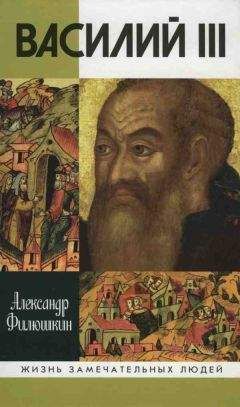— Не хватит яиц, — сонным голосом пробормотал Ваня.
— Как, не хватит? — встрепенулась Аграфена.
— На всех не хватит, — на мужа, на жену, на море, на царя, на Русь, на меня да на тебя. Или тебе не нужно?
— Нужно, сударь, нужно! — задумалась девушка, пришлось ее в бок толкнуть:
— А Гамаюн?
— Гамаюн птица веселая, про нее на ночь сказывать нельзя, не уснешь.
— Ну, скажи, хоть немножко, как ее вызвать?
— Ее не зовут. Она на Руси всегда рядом, невидимо летает. Как где выпьют меда сыченого да вина зеленого, так и запоют да запляшут. Это Гамаюн чудит. Он и пьяного развеселит и трезвого обнадежит. Пока Гамаюн по-над Русью летит, земля наша стоит. Стоит, не клонится.
Государь и великий князь всея Руси… — тут бы следовало привести полный его титул, но этим мы займемся позже, сейчас недосуг, — Иван IV Васильевич был одержим. Одержим — не идеей мировой революции, не любовью к нотр-дамской проститутке, а обычными, родными нашими, православными бесами.
Если отцы святые прочтут, паче чаянья, эти строки, надеюсь, они не очень-то обидятся на меня. Ведь не может Бог быть православным, а Бес при нем, наоборот, католическим? Должна соблюдаться диалектическая пара? Наши бесы честно выслужили себе место в российской соборности. Можно сказать, они вынесли на своих щетинистых плечах все наши колымские плевки и надругательства, таскали для нас каштаны из адского криворожского огня, упирались рогом на безбожных бамовских новостройках, прочерчивали остроносыми копытами генеральную линию, вытягивали по ней длинным хвостом наш паровоз в направлении коммуны небесной и затыкали свиным рылом прорехи нашей нравственности.
Таковыми патриотическими ликами наполнялись дни и ночи великого царя.
Бесов было двое. Бес Большой и Бес Мелкий. Далее мы будем иногда прибегать к сокращениям ББ и МБ, чтобы не сбивать с ритма нашу прозу, которая так же обязана подчиняться некоему размеру, как и поэзия.
Иван не сразу олицетворил, не враз опознал своих бесов. Поначалу непонятно было, кто толкает его под локоть сбросить кошку с кремлевской стены или громить с замоскворецким хулиганьем еврейские лавки в Китай-городе. Думали, это — от избытка детской энергии. Когда ночной страх ледяной вилкой ковырял детское сердечко Вани, и гусиная кожа до судорог стягивала живот, считалось, что это нянька Аграфена виновата со своими сказками.
Ну, и время тогда беспокойное было, могли бояре Ивана совсем извести. Тоже было чего бояться и от чего чудить.
Но вот, наконец, венчаясь на царство в январе 1547 года, Иван проговорил в Успенском соборе что-то об избавлении от лукавого и оставлении нам грехов наших. Тут сразу и началось. Весной непонятно почему, но уж не по Божьей воле! — оторвался в нижней звоннице Ивана Великого и лопнул от удара большой кремлевский колокол. 21 июня загорелась вся Москва. И не лачуги задымили убогие, не пьянь в кабаке коптилку сальную опрокинула, а вспыхнула сама собой на глазах у богомольной публики маковка главного на Руси, венчального Успенского собора. Запылало все вокруг. За огнем пришел бунт, узналось о колдовстве, и толпа обступила пристанище царя-погорельца на Воробьевых горах. Стали права качать, грубить, грозиться. Иван оцепенел. Детский ужас восстал из небытия и заскреб когтями по стеклу его памяти. Казалось, выхода нет. Сейчас эти черные, злобные люди поднимут парня на вилы, порвут на куски.
И тут из приоткрытой двери дворцовой дачки вылез Мелкий Бес. Пританцовывая, вышел на крыльцо, обозрел вопящую толпу и оборотил смешную, усатую рожицу с розовым пятачком на Ивана. Бес, — всего-то в аршин вышиной, — скрестил козлиные ножки с золочеными копытцами, и, опершись для устойчивости на пружинистый хвост, открыл рот… И стало тихо! Нет, толпа не перестала бесноваться, горластые мужики в первых рядах все так же злобно разевали щербатые рты, цыганистый толстяк по-прежнему колотил обломком бревна в перила. Но звука не было! Беззвучно сыпались из свинцовых переплетов цветные сирийские стекла, безмолвно бурлило людское море, не слышно было даже привычного шума деревьев.
— А ты их, Ваня, казнить не пробовал? — спросил с доброй улыбкой Мелкий Бес. Так заботливый доктор спрашивает у испуганного ангиной больного о действенности малинового варенья. — Вон, гляди-ка, цыган разыгрался! — вели ребятам его приколоть. Да-да! Прямо сейчас!
И когда цыгана с разрубленной головой и волочащимися кишками сбросили с крыльца в толпу, народ подался назад, по-настоящему замолчал, замер с раскрытыми, но безгласными ртами!
— Вот видишь, — развел лапками МБ, — всего и делов!
Иван смирился с Мелким Бесом, привык к нему, как к дворовому щенку или комнатному котенку. Бес не слишком докучал ему, но и всегда был тут как тут.
Хуже стало потом, через 12 лет. Умер младенец Дмитрий-первый, в конце 1559 года расхворалась и скончалась любимая жена Настя Романова. И возник Большой Бес. Страшное, огромное, темное чудовище являлось нежданно, заполняло собой все пространство, каким обширным оно ни будь, — хоть с каморку, хоть с Соборную площадь. Большой Бес и морды-то не имел. Он был, как печной чад, как гарь московского пожара, — удушлив, безысходен, горяч. Он не говорил понятных слов, но сжимал сердце ужасом, гнал прочь от людей, или наоборот, сковывал, вдавливал в тронное кресло, в деревянное сидение царского места справа от алтаря. Большой Бес не стеснялся церковных святынь и реликвий, не сучил ножками, как МБ, у входа в дом Божий. Он обволакивал своей шерстью Ивана, придворных, семью царскую и у трапезы, и среди литургии, и в крестном ходе. Иван не мог бежать, придавленный Большим Бесом. А люди вокруг щерились бесовскими улыбками, сжимали свой тесный круг. И тогда спастись от них можно было только казнями, травлями, тайным убийством.
Мелкий Бес тоже не чурался живодерни, но и здесь старался облегчить душевный гнет, снять с пациента смертную дрожь. Сквозь вой и хрип Беса Большого, когда, например, старого князя Хворостинина, героя многих войн, заволокли на помост, и когда голова его, зевая, скатилась под ноги жены, следующей за мужем на плаху, МБ тормошил заледеневшего Ивана дурацкой шуткой:
— Велел бы ты этой свинье бантик повязать, а то, что ж она у тебя без бантика?
Когда жуткой весной после смерти Насти отправляли на смерть князя Дмитрия Курлятьева с женой и детьми, Мелкий Бес прострекотал чечеткой у Ивановых ног и пролепетал сквозь расступившийся кровавый туман Красной площади:
— А вон того мальца, Лариошку, ты, Ванечка, оста-авь! Он тебе сгодится, успеешь погубить — глядишь, и с пользой.
И мальчика сразу потащили с саней и отвели в богаделенку при дворце, — Иван не помнит даже, чтобы вслух приказывал.
Вот еще недавний случай. Воротясь в 1577 году с Ливонской войны, государь, разнимаемый Большим Бесом, вздыбил «шестую» волну расправ. Среди прочих злодеев, изловленных для казни оказались книжники — игумен псковский Корнилий да ученик его Вассиан Муромцев. Умертвить их было необходимо как можно скорее, ибо ужас входил в Ивана из их спокойных, блестящих святостью глаз. Но Мелкий Бес уперся.
— Нельзя казнить сих честных людей, как простых воров. Они достойны смерти ученой!
Пришлось Ивану еще несколько дней трястись, пока мастера Кукуйские сооружали давильню, какие для книгопечатанья употребляются, только великую. Обоих злодеев под нее положили, да и стиснули винтом в бумажный лист!
Но Бесу все мало. Вот волокут мздоимца, алчного корыстолюбца — архиепископа новгородского Леонида.
— Рвать псами собаку! — кричит Иван сквозь багровую пену, — посмел церковь, дом Божий позорить, люд скромный обирать, от Господа отвращать!..
Но не тут-то было!
— Сто-ой, — тянет Мелкий Бес, — думай, что говоришь, Василич! «Собаку — псами!», — это у тебя не казнь, а собачья свадьба получается. Вора как зовут? Леонид — лев! Таковым его и следует представить, вид приличный придать. А ты кричишь: ату! — рвите Льва! — а псы смотрят, озираются — никакого льва и нету. Вели его в львиную шкуру зашить. Пущай собачки наши научаются на крупного зверя!
— Да где ж я тебе львиную шкуру возьму? — стонет Иван в пустоту. Зрители трясутся: опять царь сам с собой разговаривает!
— Ну, как знаешь, — соглашается МБ, — зашивай в медвежью.
Зашивают архиепископа в медвежью шкуру, в нос вдевают кольцо, водят на задних лапах по кругу, травят собаками. Вот! Совсем другое дело получается! Собаки уверенно кидаются на зверя, умело рвут дичину, аж клочья летят. И уж от растерзанного трупа отбегают прочь. Мясо у медведя какое-то дохлое оказывается.
С особым шиком кончал царь разбойников. Прочитали ему как-то книгу немецкую, печатанную, что римский император Август казнил своих воров не просто так, а в театре. Подбирал для них подходящий сюжет. Например, Икаром злодея оденет, крылья ему пристроит да на веревке отправит в полет над зрителями. А над серединой площади веревка возьми да оборвись! Вот Икар и шмякнется о камень. Кровь — лужей, крылья белые сломаны, в крови мокнут, кости в разные стороны торчат, — красота! Или устроит разбойнику «Гибель Геракла». Обольет его маслом горючим, даст в руки факел, и травит героя Немейским львом или Критским быком. Хочешь, бейся, хочешь, запали себя факелом, да и отдыхай. Все «гераклы» так в конце концов и поступали.