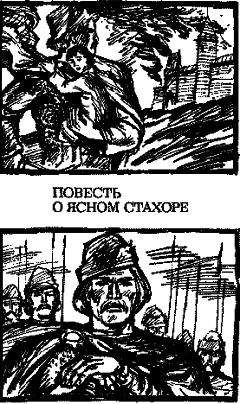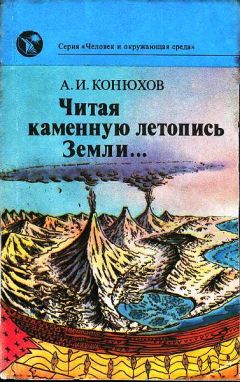Над ней, сквозь проемы обвалившейся крыши, голубело далекое небо. Падал золотой утренний луч солнца. Перекликались в кустах за стеной дрозды.
Сорока-воровка, зажав в клюве какой-то блестящий предмет, нырнула было в пролом крыши, собираясь спрятать свою находку в одном из темных углов сарая, да увидела нежданных гостей. Села на торчащую жердочку и, поворачивая любопытную голову, удивленно разглядывала: что здесь происходит? Как раз в эту минуту тетка Агата, держа сморщенное красное тельце ребенка, сказала:
– Сын, слава Христу! – И, подняв его, как могла, выше, крепко шлепнула.
Крик новорожденного вспугнул сидящую на крыше сороку. Сорока встрепенулась, взмахнула крыльями и выронила из клюва блестящий предмет. Агата только хотела похвалить младенца, даже успела сказать: «Голосист…», как глаза ее остановились на предмете, упавшем на сено, к ногам Марии.
– Что вы, тетенька? – слабым голосом спросила Мария.
Агата молча положила ребенка, закутала его в тряпье и быстро стала шарить в сене. Найдя, она прошептала радостно и испуганно:
– Перстень, Марилечка… золотой…
На ее коричневой, иссеченной морщинами ладони блестел золотой перстень с большим темно-зеленым камнем.
– Богатство какое… Это ж тебе сама пречистая дева… на бедность твою… на его вот рождение.
Мария протянула было и сейчас же отдернула руку.
– Ой, не надо, тетечка, – прошептала она, – боюсь… что люди скажут… откуда такое у нас…
– Дурочка ты, – заволновалась Агата, – дар божий! А людям какое дело? Ты им правду скажи, я сведка твоя. Не украла, не ограбила. Птушка божья… я все видела…
– И мы видели, видели… – раздались детские голоса от ворот сарая, где уже торчало несколько белобрысых голов любопытных мальчишек.
– Сорока принесла… у нее тут клад, видно… мы подследить хотели.
– Ага, у нее, может, еще спрятано, вот бы найти…
– Тетенька, вы нам толечко покажите…
– Кыш отсюда! – замахнулась на мальчишек Агата. – Это ж подумать, жонка рожает, а они дивятся! Вот бессовестные!
Отогнав мальчишек, Агата закрыла скрипучие дощатые ворота и подперла их колом.
Но уже нельзя было скрыть происшедшего. Весть о чудесном даре новорожденному облетела все хаты, будто растрещала сорока – старая сплетница. Говорили, что голубь «белый и чистый, як душа самого ангела, спустился с неба, а в клюве дукат золотой…».
– Не голубь, а аист целый мешок дукатов принес, – говорили другие.
Рассказывали:
– Савкина жонка клад нашла, птица-вещун место ей указала…
Скоро в сарае стало тесно. Всем не терпелось узнать правду.
– Виншуем, Марилечка! – женщины осторожно в щеку целовали счастливую мать. – Этакого красавца родила. Будет батьке помощник.
Тетка Агата показывала приходящим перстень. Подробно рассказывала, как все получилось.
– Ты его к Берке-корчмарю отнеси, – советовали Марии соседки. – Он всех лучше заплатит.
– В город надо, попу показать и на церковь долю…
– Что там на церковь, у самих хата худа.
– Свечку богородице, это уж непременно.
Пришел, опираясь на посох, дед Никита, дальний родственник Марии. Посмотрел на новорожденного, потом, пошептав губами, осенил его широким крестом. Младенец неожиданно заплакал. Дед улыбнулся, сказал торжественно:
– Дай тебе, боже, хлопец, журавлиный крик и лебединый век!
– Дай, боже! Дай, боже! – зашептали женщины.
– Дзякую вам, дедушка, на ласковом слове, – ответила Мария.
Она слушала поздравления, добрые пожелания, а в ушах стоял голос пана. Родила раба. Тихие слезы текли из ее глаз. Чудом найденный перстень не радовал, не избавлял от злой мысли. Что-то тревожило ее сердце, подсказывало дурное… Она пугливо оглядывалась то на перстень, переходивший из рук в руки, то на сына, снова начавшего плакать.
– Дайте мне его, – попросила Мария.
Старая Агата подумала, что Мария боится за перстень, и быстро подала ей.
– Возьми, детка, возьми… это твое… люди только поглядели.
Мария отшатнулась.
– Сына дайте…
Подали сына. Она прижала его к груди, будто защищая от собравшихся, от повисшего над ним, в руке старухи, золотого кольца.
– Что ты, Марилечка?
– Ничего… ничего… мне не надо… – сквозь слезы прошептала она, пряча лицо.
Дед Никита взял из рук Агаты кольцо, сказал строго, рассудительно:
– Как так не надо? Может, перстень этот тебе на счастье дан. К пану снесешь, за выкуп отдашь… Может, всей семье твоей воля выйдет… или хоть сыну, чтобы рос вольным крестьянином. Савва твой сызмальства о воле все марил… Найдороже всего человеку воля. Дороже золота… всей жизни дороже!
Так говорил дед Никита. Слушали его, покачивая головами в знак согласия и одобрения. Слушали бедные женщины, никогда не имевшие ни золота, ни воли… Видать, слушал его и обладатель драгоценного перстня, богач-новорожденный, потому что во время этих слов он громко причмокивал и сопел, упиваясь теплым молоком матери, только не было у него сил оторваться от благодати. И кто знает, может быть, для того, чтобы дать понять всем, что он согласен с дедом Никитой, что воля дороже всего для него, он вырвал руку из опутавших его старых тряпок-пеленок и, подняв, сжал розовые пальцы в кулак.
– Ишь ты, разбойник… – засмеялся Никита.
Улыбнулась мать, осторожно прижав к своей щеке ручку сына.
И светило им солнце. Пели птицы. И в далеком небе слышались колокола…
* * *
«…того же лета 7090 октября 19 день великое празднество и большой звон в Москве.
Великой государь сам, ради своей государской всемирной радости и для новорожденного сына своего, кормил у себя в Передней нищую братию и жаловал милостыню. Всю братию учреди и напоити, с нею же и сам изволил вкусити.
Всяких чинов людям приказным указал:
«Которые колодники во всех приказах не в больших винах сидят и в правежах не в больших и тех колодников для сей радости общей свободить».
Мноство людей московских в тот день обрели себе волю. Покинули темницы, и было им светло и радостно…»
Гудели колокола всех московских церквей. Торжествовала столица. С амвонов всех храмов, во всех монастырях читалось царское слово о ниспосланной благодати. У великого государя Ивана Васильевича и его седьмой жены Марии Федоровны родился сын. Было это 19 октября 1583 года, в день святого Уара. Митрополит напомнил царю об этом дне.
– В день святого мученика Уара рожден твой сын, государь. По церковным нашим законам и обычаям имя ему надлежит дать ото дня сего.
И вдруг замолк митрополит, недосказав.
Грозный сверкнул глазами, нахмурился. Словно темная туча закрыла лицо его.
– Пошто имя мученика младенцу невинному хочешь дать?
Спросил тихо. Потом, вздохнув могучей грудью, поднял гордую голову и торжественно объявил:
– Не на муки, а на славу Руси рожден царевич сей! Назовем его Дмитрием, как был назван наш первый, в бозе почивший наследник. В память великого князя Донского – Дмитрия!
* * *
Так в этот день появилось на свет три человека. Три новых судьбы. Были они разные, друг от друга далекие…
Дочь пани Ядвиги за толстыми стенами старого замка, обложенная пуховыми подушками и грелками, как могла, цеплялась за жизнь. Ждала своего часа.
Царевич Дмитрий жил в Московском Кремле, и еще никто не помышлял об его отъезде в маленький Углич, назначенный позднее местом жительства его матери…
Сын Марии качался в деревенской колыске, подвешенной к прокопченному потолку убогой хаты. Ждал возвращения батьки…
КАК СТАХОРА КРЕСТИЛИ
Савва Миткович спешил к дому. Он сплавлял панский лес далеко на Припяти, и туда к нему дошла добрая весть с родных Выселков. Хлопец, привезший хлеб сплавщикам, рассказал обо всем. Едва дождавшись конца работы, Савва с другом Миколой из соседней деревни и пришлым Григорием отправился напрямик, сокращая путь, через леса и болота. Словно выросли крылья у молодого отца. Друзья едва поспевали за ним. Тяжеловесный, медлительный силач Микола напоролся босой ногой на острый пенек и теперь прихрамывал. Григорий шутил:
– Нашему Савуле птушки ноги обули, а у Миколы – пятки голы!
Уже известный на сплаве насмешник и задира, Григорий недавно бежал от своего пана из-под Киева и теперь скитался по глухим местам, нигде не находя покоя. Был он малого роста, чернявый и такой подвижной, что прозвали его люди Жуком. Он и впрямь жужжал среди посполитых. То кому-либо на ухо, то открыто перед лицом доброй компании, поглядывая, лишь бы не подслушал его покрученик[3] или другой какой панский слуга. Панов и их слуг Григорий не любил. Зато с бедняками сходился быстро и тесно. К Савве привязался больше других.
Савва был на две головы выше Григория. И там, где рослый красавец плотогон делал шаг, его новый друг делал два вприпрыжку. Савва скажет слово – будто с корнем пень вывернет, а Григорий подхватит, очистит, отточит, и засверкает слово острой секирой.