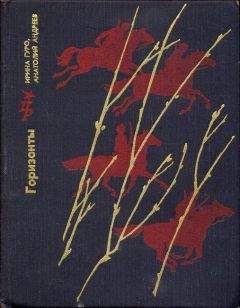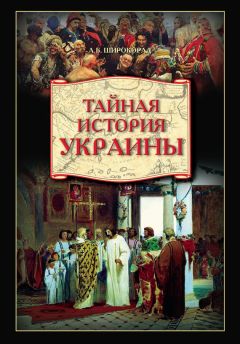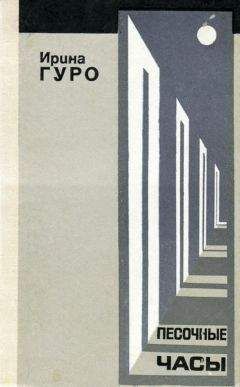От объявлений об обмене квартир и приблудившихся собаках Титаренко оторвали один короткий и три длинных звонка.
Собственно, звонки звучали все время, пока он читал газету, но он как-то к ним притерпелся, хотя первые минуты каждый раз настораживался.
Он встал навстречу Якову Петровичу. Правда, не сразу, с сомнением приблизился к нему. С сомнением и не без осуждения: лицо у Трищенко было голое, неприлично голое, как сковорода. И уже невозможно было себе представить на этой сковороде пышные с проседью усы, которыми когда-то так гордился Трищенко. Одет был Яков Петрович тоже несусветно: в берете! «Все рушится!» — подумал Титаренко, увидя синюю нашлепку на крупной пепельно-чубатой голове друга и апельсинового цвета рубашку, да к тому же трикотажный галстук в разрезе стандартного шевиотового пиджака.
Необычная жизнерадостность старого приятеля тоже показалась Титаренко неуместной. С чего бы радоваться? Что люстру вбок загнали? Что сын женился на разводке с большой девчонкой?
Не успел он задуматься над этим и не обменялись еще они неизбежными вопросами, как опять прозвучал набор звонков, и девочка, только что бурно встречавшая «дедушку», закричала: «Мама!» Титаренко замер, ожидая увидеть уж вовсе неожиданное. Так оно и было.
Не то чтобы его поразила наружность или одежда вошедшей: и пальтишко на ней было обычное, и вязаная шапочка, вид моложавый, скорее девчонки, а не матери. Поразило Титаренко сходство этой молодой, привлекательной женщины с покойной женой Якова Петровича. И почему-то ему подумалось, не потому ли с такой нежностью Яков Петрович произнес:
— Вот и сношенька моя, Галина Викторовна.
У снохи, видно, дело в руках спорилось — и то хорошо! Пока друзья делились краткими сведениями о своей жизни — то, что Трищенко руководит в клубе Разноэкспорта самодеятельностью, Ансамблем украинской песни, отчасти примирило Тараса Ивановича с беретом, — стол был уже накрыт. Золотилась в графине настоянная на лимонных корках водочка, и, окинув взглядом все, что стояло на белой с украинской вышивкой скатерти, Титаренко заключил, что хозяева живут неплохо. И кинулся к своему чемоданчику доставать всякую снедь, привезенную в подарок другу. Были тут и собственного засола огурчики, такие зелененькие с пупырышками, словно только что с грядки. И окорок, весь дымчато-красный, с белым окаймлением жира, и, конечно, украинская колбаса своего приготовления. Хозяева шумно благодарили, удивлялись, восхищались.
Но, конечно, настоящий разговор, надеялся Титаренко, начнется тогда, когда Галина встанет из-за стола: пора уже, наверное, укладывать дочку. А что касается Петра, то о нем было сказано, что у него сегодня партийное собрание, придет не скоро. «Партийный! — мысленно ахнул Титаренко. — А впрочем, без этого не проживешь».
И началась беседа, от которой и не думал отказываться Титаренко, и уж некуда было деваться Якову Петровичу.
Особых переходов искать не приходилось: как-никак Яков еще виделся Титаренке в лихом гайдамацком обличье, в жупане с желто-голубыми петлицами, с трезубом на фуражке!.. То время разве забудешь? И, слегка размякший от воспоминаний, от выпитого, Титаренко начал…
— Вот мы и дожили с тобой, друже, — куда денешься? — до таких годов, до сивых голов. Та не так воно склалося, як мы гадалы… Одначе не вся писня проспивана!
— Так, так, — задумчиво кивал Яков Петрович и все возвращался назад, далеко назад, еще до всяких трезубов, когда парубками гуляли они по берегу родной речки Сулы. А Титаренко все старался вернуть его ко временам трезуба, чтобы потом уже перебросить мост к сегодняшнему дню, к тому, что сейчас можно и нужно делать. Но Яков Петрович словно бы не понимал, чего-то городил про свой хор и даже пытался затянуть: «Стоить гора высокая, а пид горою гай…» И тут только Титаренко вспомнил, какой отличный голос звучал на деревенской улице, когда в центре хоровода шел ладный парубок Ягака Трищенко…
Титаренко не дал себе воли углубляться в столь далекие времена. Излияниям друга он положил конец трезвым и — что там! — откровенным вопросом:
— А як же, Яков, служишь ты нашому дилу, наший святый идеи, наший вильний Украини?..
И в одно мгновение, по игре чувств на лице друга, угадал Титаренко, что тот все время ждал этого вопроса и был готов к нему. Только как именно готов, этого не угадал Титаренко. И потому все больше как бы закаменевал, сжимался, с силой подавлял в себе готовый вырваться окрик презрения и разочарования.
««Не занимается политикой», — выдавил из себя Яков! А чем же, сучий сын, занимается? Песни распевает? С чужой девчонкой нянькается? Эх, Яков! И такого скрутила жизнь!..»
Не то чтобы Титаренко на что-то определенное рассчитывал, да и не было у него разговору с хозяином о какой-то конкретной задаче, которая предполагала бы участие Трищенко в работе. Но само собой, естественным образом мечтал Титаренко о встрече с единомышленником и сейчас не мог скрыть, да и не хотел, обиды на друга.
Разговор не клеился, уже не были интересны рассказы Якова, да и Галина вернулась со своими, как она думала, занимательными для гостя новостями московской жизни.
Переночевав у Трищенко, на следующий день Титаренко отправился в Госбанк.
И хотя встреча со старым другом оставила в душе царапину, но важнее в тысячу раз было то, что в кармане у него оказался чек на Харьковский государственный банк. Важный не только значительностью суммы, жирненькими нулями, в нем проставленными, а тем, что был как бы вещественным знаком доверия и надежды.
Евгений Малых докладывал, как всегда, избегая лишних слов, только самую суть документа. Словно выбирал сердцевину из ореха, отбрасывая скорлупу. Благодаря исключительному свойству своей памяти Евгений, не заглядывая в документ, ясно видел перед собой его текст. И если секретарь ЦК задавал какой-нибудь вопрос, Евгений мог ответить, не обращаясь к бумагам.
И сейчас, когда он отложил письмо этой несчастной женщины Софьи Бойко из Кривой Балки, а Косиор спросил, давно ли арестован ее брат, Евгений не только сразу ответил, что уже два месяца, но и воскресил в памяти нервный почерк Софьи. И путаницу украинских и русских слов, и ту фразу, которая больно резанула его, а в его передаче, вероятно, и Станислава Викентьевича: «До каких же пор будем мы терпеть разгул и издевательства кулаков над честными коммунистами! И чтобы закон не покарал их, не може того буты!» По-украински эти слова: «Не може того буты!» — звучали почему-то особенно горько и требовательно.
Случалось и раньше, когда Евгению очень хотелось, чтобы Станислав Викентьевич заинтересовался каким-то документом… Так и сейчас: еще звук его голоса не растаял в углах кабинета, как Косиор протянул свою характерную небольшую руку с короткими крепкими пальцами:
— Покажите письмо.
Малых вынул из пачки подлинник письма Софьи с приколотой к нему отпечатанной копией и положил перед секретарем ЦК.
К его удивлению, Косиор откинул машинописный текст и стал читать оригинал. Как будто собственноручно написанное могло точнее передать суть дела. А может, и так? В нервном стремительном почерке угадывался характер…
Он не дочитал до конца и быстро сказал:
— Эта женщина пишет слишком грамотно для селянки.
— Она учительница, Станислав Викентьевич, там дальше указано.
Косиор стал читать дальше и снова остановился:
— Извлечем главное: председатель колхоза Федор Бойко якобы похитил посевной материал из колхозного склада. А дальше нагнетается и обставляется весьма продуманно, вполне в духе кулацкой провокации… Действительно, на складе — недостача, а на задворках председателевой хаты — те самые, но уже пустые мешки. Так?
— Вот именно, — подтвердил Евгений.
— И вдруг неожиданный поворот — признание сторожа: ночью он отомкнул склад и дал кулакам вывезти зерно. Как я вижу, показания его подтвердил один из участников провокации, — Косиор посмотрел в заявление: — Вот… Васильчук!
— Более того, Станислав Викентьевич, именно Васильчук на своих санях подвез мешки к сараю кладовщика Онищенко, вместе с ним пересыпал зерно в другие мешки, а пустые Онищенко подкинул на председателев огород. И мотивы действий Онищенко тоже ясны, поскольку он зять местного кулака…
— Простое, очевидное дело… А человек уже два месяца в тюрьме, — резко сказал Косиор. Он перечитал последние строки: «Я уже неделю в Харькове, маюсь то на вокзале, то по людям. Каждый день хожу до прокурора, да никак не пробьюсь» — и посмотрел повыше текста. Даты не было. На штампе приемной ЦК стояла дата вчерашнего дня.
Станислав Викентьевич, не откладывая бумаги, спросил:
— Где сейчас Софья Бойко?
Евгений не знал. Сотрудник приемной принял письмо, не спросив адреса заявителя. Это был непорядок. Он, правда, не касался Евгения, но в эту минуту недовольство Косиора он принял на себя.