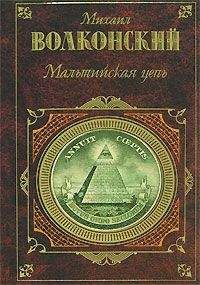Князь Иван выгнал вон управляющего, чуть не избил его, но на этот раз управляющий не устрашился молодого и неопытного барчонка. Он удалился с чувством собственного достоинства и быстро повел дело.
Наехали подьячие, приказные, брали с князя Ивана взятки, но и пяти месяцев не прошло, как оказалось, что в Дубовых Горках полными хозяевами очутились эти самые приказные и бывший управляющий.
Сунулся князь Иван и к судьям, и к властям; везде его сожалели, но сделать ничего не могли и во всем винили, конечно, его отца.
Не сразу мог прийти в себя князь Иван, но однажды он все-таки проснулся с сознанием, что так дальше оставаться ему нельзя и что ему нужно предпринять что-нибудь. Но что предпринять, что было делать?
Прежде всего нужно было уехать из Дубовых Горок.
Князю Ивану было решительно безразлично, куда ни ехать, и он решил – в Петербург. Там все-таки можно было надеяться найти службу и покровителя.
Князь Иван велел вольнонаемному камердинеру отца, французу Дрю, уложить гардероб и ценные вещи и отправился в Москву. Там он выручил от продажи оставшихся у него после отца табакерок, колец и дорогих тростей довольно порядочную сумму, которой могло хватить ему на первое время.
В Москве же он продал своих лошадей и на переменных ямских вместе с французом-камердинером отправился в дорогу.
Было раннее утро, когда князь Иван после долго путешествия подъезжал к Петербургу. Стояли первые дни августа. Утро казалось теплым. Подымались испарения от болот, окружавших еще сплошным кольцом сравнительно недавно созданный Петром Великим город. В воздухе чувствовалась непривычная князю Ивану близость морской воды.
Самого моря еще не был видно, но уже отсюда, для человека, столько лет пробывшего во внутренней полосе, заметно было, что оно близко.
Князь Иван с последней станции, где его уговаривали отдохнуть, на что он не согласился, не рассчитал хорошенько времени своего приезда и очутился под Петербургом слишком рано – в седьмом часу утра.
Города он совершенно не знал и не имел понятия о том, где ему остановиться. Приходилось искать постоялого двора или какой-нибудь частной квартиры; но искать в ранний час было и затруднительно, и неудобно.
«Верно тут где-нибудь у заставы есть заезжий двор, – сообразил князь, – тут остановлюсь и пережду немного».
И он стал искать глазами по сторонам видной далеко вперед, топкой и грязной прямой дороги, нет ли среди видневшихся на конце ее зданий, где, очевидно, была застава, чего-нибудь похожего на заезжий двор.
Старая, петровского фасона колымага, в которой из деревни сделал всю дорогу князь Иван, с французом-камердинером на козлах, тяжело катилась и на ровных местах не встряхивала, так что француз, задремав под утро, усердно клевал носом. Ямщик, как стала видна застава, прибавил хода лошадям, и строения, которые теперь внимательно рассматривал князь Иван, становились все ближе и ближе.
Это была кучка Бог ведает в силу каких причин скопившихся невзрачных домиков, среди которых выделялось мазанковое одноэтажное строение под черепичною крышей; на далеко выставленной из-под этой крыши палке болталась вывеска с нарисованным на ней рыцарем и голландскою надписью. Очевидно, это было именно то, что нужно. Иностранная надпись показалась князю Ивану утешительной. Оно все-таки лучше, значит, если хозяин тут – иностранец.
Однако в этом пришлось разочароваться.
– Это что ж здесь, – спросил князь Иван ямщика, – заезжий двор, что ли?
– Херберг, кабак господский… Митрич держит.
– Какой Митрич?
– Ярославец. Сначала, говорят, голландец держал, еще при царе покойном, а потом расторговался, в самый город перешел. Митричу передал. Он у него в мальчишках был.
– Ну, вези к Митричу! – решил князь Иван.
Колымага свернула с дороги, встряхнулась раза два, попав в ухаб, и остановилась у настланных деревянных широких мостков пред мазанковым строением.
– Приехали? – проснулся француз.
– Нет еще.
– О господин мой князь, – заявил Дрю по-французски, – я падаю от усталости!
В это время из двери под болтавшейся вывеской с рыцарем вышел степенный, в белой рубахе, старик, очевидно – сам хозяин, Митрич, как назвал его ямщик, и подошел к самой колымаге.
– Вот что, – заговорил князь Иван, – можно у тебя тут остановиться? Я чаю напьюсь.
– Чая напиться можно.
– Ну, так вот мы вылезем. У тебя комната есть? Ты только самовар дай…
– Комната-то есть, только занята она. Господа из города еще вечор приехали.
– Какие господа?
– Известно, молодая кумпания… так, чтобы время провести. Так вот комнату заняли, – и Митрич, точно ему решительно было все равно, что это вовсе не устраивало князя Ивана, стал смотреть вверх по дороге, вдаль.
– Как же быть? – спросил князь Иван.
– Да чая напиться можно, если угодно, на вольном воздухе. Вот столик под окнами, сюда и самовар вынесть можно.
– Так бы давно и сказал! – и князь Иван вылез из колымаги и, с удовольствием разминая ноги, пошел к столику под окнами здания.
Ямщик повернул во двор и увез снова задремавшего француза.
Князь Косой присел к столику. Почти в ту же минуту из двери вылетела босоногая девочка с красной камчатной скатеркой в руках, накинула ее на стол, расправила и снова кинулась в дверь, застучав по доскам своими голыми пятками.
Окна дома были приподняты, и сквозь тонкие красные спущенные занавески князю Ивану было слышно то, что делалось внутри. Там «кумпания», о которой говорил Митрич, не спала.
– Ну, что же, – слышался чей-то молодой голос, слегка осипший, – хотели спать, улеглись и никто не спит. И мне спать не хочется…
– Да чего спать? Выдумали ложиться в седьмом часу! Теперь бы кваску испить.
– Рассола огуречного.
– А Левушка, кажется, заснул. Левушка, Левушка!.. Но тот, кого окликали, не отвечал.
– Левушка! – стали звать опять.
– Ну, сто, сто вам? Я не сплю, – ответил наконец, очевидно, Левушка (он шепелявил).
– У тебя руки чистые?
– Луки? луки у меня чистые…
– Почеши мне пятки…
В комнате послышался смех.
– Я вам в молду дам, – решил Левушка, и новый взрыв смеха покрыл его голос.
Хозяин, переваливаясь, принес самовар и поставил его на стол. Босоногая девчонка с прежнею стремительностью явилась с чашкой и блюдечком.
– Это что же они, – спросил князь Иван, кивнув на окна дома, – всю ночь не спали? Чего же они приехали сюда?..
– За городом вольнее, значит, – пояснил Митрич. – А чай сейчас ваш француз принесет. Медку не прикажете ли?
Князь Иван приказал медку.
«Кумпания», которую застал князь Иван в комнате «господского кабака» Митрича, состояла из нескольких молодых людей, собравшихся отпраздновать поступление в полк одного из своих товарищей, Володьки Ополчинина; они устраивали ему проводы.
В городе такой «кумпании» нигде не позволили бы оставаться всю ночь, и потому они выбрали «заведение» Митрича, как это часто делалось у них, забрали с собою вина и провизии, приехали к Митричу с вечера, пили, играли в карты, шумели на свободе, улеглись было спать в седьмом часу утра, но из спанья у них ничего не вышло, и они решили одеваться и приводить себя в порядок.
У кого-то в погребце нашлись мыло и бритва; поставили на столе, занятом еще остатками вчерашнего ужина, зеркало, и первым принялся за бритье Ополчинин, как наиболее предприимчивый из всех.
Шепелявый Левушка Торусский один готов был заснуть по-настоящему, но его разбудили, поставили на ноги и заставили тоже одеваться.
Ополчинин выбрился, вымылся, надел камзол и был уже совсем готов, как вдруг один из компании, тоже одетый и сидевший у окна, на котором поднял занавеску, проговорил: «Ишь несчастный!» – и показал в окно.
Там, видимо, боясь ступить на мостки, стоял с непокрытой головой прохожий-нищий, по-видимому бывший солдат, судя по облекавшим его отрепьям мундира и рваной штиблета на правой ноге. Левая была у него на деревяшке.
– Ага, не пустили! – улыбнулся Ополчинин.
– Кого, не пускали, куда? – забеспокоился Левушка, тоже подходя к окну.
– Да вот его, – показал Ополчинин, – нынче нищих не велено в Петербург пускать…
– С июня уже не пускают. Указ был, – подтвердил кто-то, – нынче строго…
Нищий действительно стоял с таким расстроенно-беспомощным видом, точно вовсе не знал, что же ему теперь делать! Он бессмысленно-тупо смотрел пред собою на дорогу, как бы не веря тому, неужели должен он будет опять назад мерить ее своею деревяшкой.
– В молду бы дать! – проговорил Левушка.
– Кому? ему? – улыбнулся Ополчинин.
– Я не пло него говолю. Я говолю, зачем его не пустили. Сто-с тепель он будет делать?
Шепелявое косноязычие Левушки показалось забавным. Все опять рассмеялись.
Нищий стоял не двигаясь, словно не живой человек. Только утренний ветерок слегка двигал прядями его седых, жидких волос.