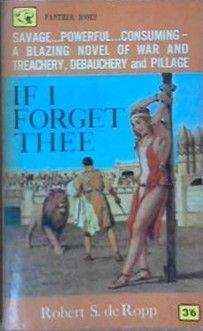Однако природа моего рабства была такова, что даже самые хорошенькие постельные грелки отца не могли понравиться мне, хотя они делали для этого все, побуждаемые моим отцом и Британником, видевшим, как я сохну от страсти. Особо уговаривать девушек не требовалось, ведь я был красивым юношей и имел все, что нужно, чтобы удовлетворить их природные склонности. И, действительно, они пытались соблазнить меня всеми известными им способами, разгуливая в одеяниях из прозрачного газа, резвясь со мной по утрам, щекоча меня, когда их посылали за мной, и когда они готовили мне ванну. Но я всегда отвергал их, как Адонис отвергал знаки внимания Венеры, но не потому, что я был наивен, не понимая собственной удачи, а потому, что мои мысли были заняты другой, и я не мог принять дешевого удовольствия от любви девушки-рабыни.
И вот, захваченной сетями желания, я был вынужден покинуть отцовский дом, чтобы мчаться по каменистой дороге к Иерусалиму, в то время как грабители могли подстерегать за холмами, а рядом ворчал Британник, проклиная объект моей неудобной страсти — Ревекку, дочь Ананьи, первосвященника. Как я мог даже предположить, что подобный человек согласится на брак своей дочери с необрезанным чужеземцем? Разве я не достаточно долго прожил в этой проклятой Иудее, чтобы не знать обычаев и предрассудков евреев? Как я мог надеяться на брак, не приняв еврейской веры? И неужели я принесу в жертву свою крайнюю плоть ради улыбки слабой девчонки, которая играет мужскими сердцами, как ребенок играет костяшками? На это я отвечал, что ради Ревекки я с радостью бы расстался с этой частью своего тела, но для того, чтобы стать евреем требуется нечто большее, чем обрезание. Если бы я был уверен, что она примет меня после обрезания, я бы без колебания перешел в еврейскую веру. Вот только было неясно, что она думает. Ее глаза словно летние ласточки то и дело устремлялись к чьему-то лицу. Этими взглядами, поворотом головы, неожиданной улыбкой она зажигала в мужчине страсть, делала его своим обожателем, обещая, казалось, безграничное блаженство. А через несколько минут она забывала о нем, и ее взгляды обращались к другому. Как летняя мошкара вьется над поверхностью воды, так и она мельком смотрела на мужскую любовь, но никогда не позволяла себе углубиться в нее. И из-за того, что я был неуверен в ее чувствах, я не обращался и не совершал обрезание, ведь как и греки я гордился своим телом и не мог бы с легкостью согласиться на его порчу.
Оставив позади каменистую дорогу, мы приблизились к городу по крутым склонам горы, которую они называют Масличной горой, и здесь я на некоторое время прерву повествование, чтобы оплакать этот благородный город, ныне лежащий в руинах, и чтобы описать его славу в дни его величия. Мог ли кто-нибудь быть так мрачен или равнодушен, чтобы не остановить на мгновение в изумлении, когда перевалив через вершину Масличной горы, он в первый раз видел пышность Иерусалима? Первое, что бросались в глаза, было сияние золота и белого мрамора там, где солнечные лучи отражались от вершины Святилища, самой святой постройки этого огромного Храма, который ярус за ярусом поднимался по сторонам горы Мориа. Этот Храм, бывший душой Иерусалима и объектом почитания каждого еврея, раскинулся на востоке города, возвышаясь над долиной ручья Кедрон. С севера от Храма стояла крепость Антония, выстроенная царем Иродом для контроля за городом, мощное строение из мрамора с четырьмя высокими башнями. Что же до всего остального города, то он был выстроен на двух холмах с такими крутыми склонами, что могло показаться, будто гигантская рука сдвинула их с огромной массой земли. Самой древней частью был Верхней город, отделенный от Храма глубоким ущельем с очень крутыми склонами, называемым Тиропской долиной. Стена Верхнего города была древнейшей из стен Иерусалима, столь толстая и высокая, что ее вряд ли можно было разрушить. Царь Давид, отец Соломона, построил эту стену, но потом и многие другие достраивали ее. Эта мощная стена защищала и Нижний город, который простирался на юге до долины Гинном и заканчивался у купальни Силоам и акведука Понтия Пилота.
Таким был город, который мы — Британник и я — созерцали, когда остановились на вершине Масличной горы, чтобы дать передохнуть лошадям перед тем как спуститься в долину и пересечь ручей Кедрон. Я не хочу, чтобы вы думали, что это был красивый ручеек, журчащий среди тростника и лилий как ручьи в землях, благословенных обильными дождями. По большей части это было вонючее, пыльное ущелье, наполовину заваленное мусором и требухой из города. Но когда на холмы обрушивались свирепые дожди, а на землю яростные ветры, тогда за какой-то час сухое ущелье заполнялось, и с гор устремлялась бушующая вода, отбрасывая прочь в своем стремительном течении даже огромные валуны. Когда в тот день мы переправлялись через Кедрон, вода все еще текла потоком, а на берегах скромно цвели весенние цветы. Тем не менее этот Кедрон был обителищем страданий особенно там, где соединялся с долиной Гинном в месте, называемом Тофет, что для всех евреев означало проклятое место. Именно в этом месте жили люди, которым было отказано жить в городе — прокаженные, ковыляющие на культях, чьи лица были искажены либо сгнили от болезни. Везде можно было видеть страждующих, на которых лепились мухи, и чьи тела пухли от голода. Здесь можно было видеть детей, роющихся в мусоре в поисках куска испорченного мяса или грязного выброшенного хлеба, который не годился для стола богатых, прокаженных матерей с искривленными телами, пытающихся накормить прокаженных младенцев, человеческие трупы, которые пожирались псами, и хотя евреи самые щепетильные люди в вопросах погребения, у этих голодающих существ не было никого, кто вырыл бы им могилу. Когда наша колесница приблизилась к ним, они окружили нас, выпрашивая милостыню своими дребезжащими голосами, протягивая костлявые руки, поднимая к нам изуродованные лица. Британник погрозил им своим кнутом, хотя и был слишком добр, чтобы ударить подобные существа. Если бы он уже не съел его, он бы отдал им взятый с собой для подкрепления хлеб, одновременно грозя суровым наказанием, если они не отойдут назад, и не будут соблюдать дистанцию. Что до меня, то я отвернулся и зажал нос, ведь если вони от прокаженных было недостаточно, то здесь стоял смрад от человеческих экскрементов, вывозимых за города из находящихся по соседству ворот и сваливаемых здесь в кучу для перегнивания. Этот навоз высоко ценился крестьянами, которые разбрасывали его на своих полях и выращивали на нем отборнейшие овощи и цветы, доказывая странность великого закона Природы, что из такой гадости, вырастает такая сладость.
Улицы Нижнего города тоже воняли. Здесь были узкие улочки, на которых толпился народ, и на каждой улице шла торговля. Здесь жили дубильщики и валяльщики, несущие мочу, которую собирали в общественных туалетах, и использовали в своем деле. Здесь была улица красильщиков, забрызганная яркими красками, на которой можно было видеть огромные чаны с красителями, куда погружали скрученные мотки шерстяной пряжи. Здесь были ткачи, чьи челноки сновали туда и сюда, а станки гремели и щелкали, словно хор деревянных цыплят. На другой улице располагались гончары, крутящие свои гончарные круги и лепящие вымазанными влажной глиной руками формы различных сосудов. А еще здесь на Нижней агоре или рынке продавали такую еду, которую могли себе позволить бедные. В палатках была выставлена сырая рыба и дешевое мясо, над которым все время висел целый рой жирных мух. Кто бы не голодал в Иерусалиме, но мухи там всегда были жирными. Они летали везде, даже в Храме, куда их привлекала кровь жертвенных животных. Нигде я не встречал более крупных мух, чем в Иерусалиме.
Пока человек пробирался по узким, вонючим улочкам Нижнего города и не приближался к дороге, которая поднимается по крутому склону горы Мориа, блеск этого города еще не был виден. Мы медленно поднимались по крутой дороге под мрачной тенью крепости, которую выстроил Ирод[1] и назвал Антония в честь Марка Антония, перед которым он в то время заискивал. Как велик и как странен был гений этого самого Ирода, потому что кто кроме гения или безумца — а были люди, утверждающие, что Ирод был и тем и другим — мог задумать и построить сооружение, подобное этой крепости. С дороги, по которой мы ехали, она возвышалась над нашими головами, построенная на обрывистой скале высотой более восьмидесяти футов, полностью покрытая совершенно гладкими каменными плитами. За стеной на вершине скалы возвышались три башни высотой восемьдесят футов. Четвертая башня находилась в месте соединения крепости и Храма и возвышалась над портиками на высоту ста десяти футов. Внутри крепость напоминала дворец и по простору и по богатству убранства. Она делилась на разные покои всевозможного предназначения, включая галереи, ванные, парадные покои и внутренние дворы, где могли обучаться войска. Два длинных лестничных пролета вели вниз к портикам двора для неевреев, который являлся внешним двором великого Храма. По этим ступеням немедленно спускалась римская стража, если где-нибудь появлялись признаки бунта, и они никогда не отдыхали в городе, где в те времена волнения случались чуть ли не ежедневно. По крайней мере, одна римская когорта всегда размещалась в крепости Антония, потому что, если Храм господствовал над городом, то крепость господствовала над Храмом, и тот, кто хозяйничал в крепости, был хозяином в Иерусалиме.