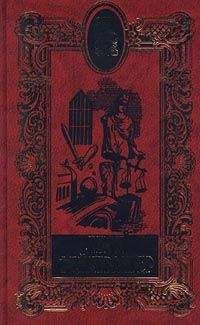И вдруг теперь без какого-либо повода все узы, привязывающие его к этой женщине, будут разорваны, сброшены, уничтожены.
Будут ли? Он ничего не сказал. Не пожелай он – и ничего не изменится.
Герцог стоял в грязи, посреди дороги, один, с непокрытой головой, под мелким, упорным дождем. Он снял с правой руки перчатку с раструбом и машинально похлопывал себя ею по ляжке.
Пожалуй, повод все-таки был. Был повод? Шумливый прусский король, в последний свой визит в Людвигсбург, обращался к нему с увещеваниями. Пора уж ему примириться с герцогиней, подарить стране и себе второго наследника, нельзя династии быть представленной одним наследным принцем, когда католики спят и видят, чтобы угас род евангелических швабских герцогов. Но не в том дело. Нет, совсем не в том. Прусский сухарь может убираться восвояси к своим пескам и соснам и не докучать ему пошлыми и постными нотациями, в которых на каждом шагу упоминается о смерти. Он, Эбергард-Людвиг, несмотря на пятьдесят пять лет, еще, слава богу, мужчина в соку. Не все ли ему равно, кто после его смерти взвалит на свои плечи бремя правления и его долги и будет портить себе кровь распрями с вшивой парламентской сволочью. Дураком надо быть, чтобы из-за этого бросить Христль!
Он зашагал быстрее и, фальшивя, громко стал насвистывать мотив из нового балета. На что еще напирал пруссак? Графиня, мол, для герцогства худший бич, чем все нашествия французов и самые тягостные имперские войны. Она одна, мол, причина и виновница всех бед, неурядиц и смут в Вюртемберге. Она немилосердно выкачивает и выжимает весь пот страны себе в карманы. Старая история. Черт бы ее побрал! Эта песня звучала ему в сотнях пасквилей, этим соусом сословия потчевали его каждую неделю. Даже в засухе и граде винили графиню. А лучше бы радовались, сутяги, скупердяи несносные, что их поганые гроши она с таким размахом превращает в блеск и великолепие. Ей нужны были деньги, деньги без конца, такого количества денег, какое нужно было ей, не водилось во всей Римской империи, и ради них она ластилась, клянчила, хныкала, грозила, дулась, капризничала, так что он голову терял от отчаяния, не зная, откуда взять еще и еще денег. Но что было лучше: убогое, скопидомное хозяйство герцогини, где всякий пфенниг на счету, или сверкающее великолепие этой женщины, где замки, лесные угодья и все доходы казны пролетали пестрым фейерверком?
Нет, такого рода аргументами его нельзя было отвратить от этой женщины. Он и поставил бранденбуржца на место, а будь у него лишних тысчонки две солдат, которых никогда, увы, никогда не разрешат ему представители сословий, он совсем по-свойски, по-швабски отделал бы грубияна. Нет, такая болтовня не могла тронуть его, а если все-таки тот скряга, тот чурбан дал толчок к отставке графини, то лишь одним незаметным словечком, которому и сам вряд ли придал значение. Они с королем отправились в горы полюбоваться видом, и когда бранденбуржец увидал плавный волнистый ландшафт, нежно зеленеющие холмы, обильные злаками и плодами, лозами и лесами, он вздохнул про себя:
– Вот благодать так благодать! И подумать только, что старая баба, как ржа и саранча, точит их.
Ржа и саранча нимало не смутили Эбергарда-Людвига. Да, но старая баба… Эти слова уязвили его до глубины души. Он, Эбергард-Людвиг, привязан к подолу старой бабы? Любые проклятия, угрозы, поношения скатывались с него как с гуся вода. Да, но старая баба?
Герцогу припомнились дела давно прошедших времен. Несмотря на грозные эдикты, в народе упорно ходили россказни, будто эта женщина приворожила его к себе. Один случай возник в его памяти со всеми подробностями. Камеристка графини, которую он даже помнит по имени – она прозывалась Ламперт, – прибежала к придворному священнику Урльшпергеру, с рассказом о мерзких, кощунственных, колдовских действах, которым предается графиня, дабы привязать к себе герцога. Придворный священник составил протокол, принудил девушку подписаться под ним, запечатал его и запер эту тайну в ящик своего бюро. Герцог дознался обо всем, нарядил следственную комиссию, которая отстранила Урльшпергера от должности, а Лампертшу присудила к розгам и выслала за пределы страны. Тем не менее герцог не сомневался, что не только народ, но и сама следственная комиссия верит скрепленным присягой подлым, нечестивым россказням. Согласно этим показаниям, графиня, будучи в Женеве, разорвала рубашку герцогини на четырехугольные тряпочки, окунула их в настоянный на спирту мелкоистолченный висмут, а затем наглым и непристойным образом пустила их в ход для подтирки. В Урахе она велела принести новорожденного теленка от черной коровы и собственноручно отрубила ему голову, то же проделала она и с тремя черными голубями, другой раз она оскопила козла, не говоря уже о прочих гнусных и непотребных действах. Такими якобы средствами она достигла того, что он почувствовал отвращение к законной супруге, без нее же, без графини, не мог жить, ибо едва он с ней разлучался, как с ним делались приступы удушья.
Вот уж ослы, бесплодные и худосочные ослы! Болтают о колдовстве, не могут иначе как чародейством объяснить себе то, от чего у каждого здорового мужчины самым естественным образом кровь вскипает и бурлит. А ему достаточно было вспомнить Женеву, голубую комнату гостиницы «Золотой олень» и как Христль сияла улыбкой ему навстречу, раскинувшись во всей красе на широкой постели. Бог свидетель, ей незачем было тогда убивать ни телят, ни голубей, чтобы зажечь его кровь. Но теперь? Старая баба? Да ведь есть же у него еще руки, чтобы осязать, глаза, чтобы видеть. Она несколько располнела, это верно, и страдает одышкой, но разве дьявольские козни и нечестивое колдовство причиной тому, что он по-прежнему привязан к ней? Серые глаза ее хоть и потускнели, но остались такими же большими и влекущими, как двадцать лет назад, а каштановые волосы не изменили цвета, и в голосе у нее звенели все колокольчики первых дней любви. Правда, рябинки – следы дурной болезни, как утверждали клеветники, – безмерно возбуждавшие его тогда, теперь были запудрены и прикрыты румянами. Старая баба! В этот раз она была такой томной, такой меланхоличной. Она не высмеивала его, не устраивала ему сцен, даже денег не требовала. Может, почуяла что-нибудь? Но хотя бы она сделалась кротка, как однодневный ягненок, старую бабу ему не пристало любить. Не пристало ему, Эбергарду-Людвигу. Уж лучше вернуться к своей унылой герцогине, дать стране второго наследника и жить в мире с богом и императором, со страной и парламентом.
Правда, потом она называла его Лукс, Эбергард-Лукс, и колокольчики звенели, как в первые дни. А дальше вздумала потешаться над ландтагом, требовавшим изгнания из ее, графининых, деревень и угодий всех евреев, ее евреев, когда у каждого из них в будний день больше ума в мизинце, чем по праздникам в голове у всего ландтага вкупе. Второй такой остроумной, сметливой и веселой женщины – безразлично, старой или молодой, – которая бы так метко высмеяла по-дурацки ехидную грубиянскую петицию ландтага, он не встречал нигде, от Туретчины до Парижа, от Швеции до Неаполя.
Пожалуй, хорошо, что он не сказал ей решающего слова.
Он сделал знак, и все его кареты остановились прямо перед ним. Он приказал повернуть. Ему не хотелось сразу ехать в Штутгарт, не хотелось и в Людвигсбург. Лучше в Неслах, в уединенный охотничий домик. Ему нужно успокоиться, проветриться. Он послал скорохода за тайным советником Шютцем, чтобы с ним спокойно наново обсудить это дело.
Старая баба?
С дороги в Неслах он отправил еще одного гонца, новой, совсем юной венгерской танцовщице, неделю назад прибывшей в Людвигсбург, предписывалось не мешкая ехать в охотничий домик. К черту, к дьяволу воспоминания о прусском госте!
Исаак Симон Ландауер,[4] гоффактор герцога Вюртембергского, ездил в Роттердам заключать от имени курцфальцского двора кое-какие кредитные сделки с Нидерландско-Ост-индской компанией. Гонец графини Вюрбен срочно вызвал его из Роттердама обратно в Вильдбад, к графине. Дорогой он встретил своего коллегу Иозефа Зюсса Оппенгеймера, курцфальцского обергоф-и-кригсфактора и одновременно финансового агента при курфюрсте-архиепископе Кельнском. Иозеф Зюсс, только что завершивший ряд ответственных и сложных дел, думал отдохнуть где-нибудь на курорте и без труда поддался на уговоры Исаака Ландауера поехать с ним в Вильдбад.
Отправились они в элегантной собственной дорожной карете Зюсса. «Верных двести рейхсталеров обходится в год содержание такой кареты», – с добродушной, чуть насмешливой укоризной определил Исаак Ландауер. На запятках восседал камердинер и секретарь Зюсса, бледнолицый и невозмутимый Никлас Пфефле, бывший писец у нотариуса; Зюсс столкнулся с ним в Маннгейме, когда подвизался в конторе адвоката Ленца, и с тех пор повсюду возил с собой этого расторопнейшего из слуг.