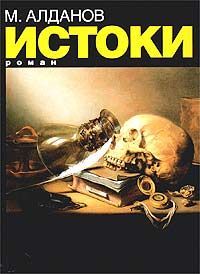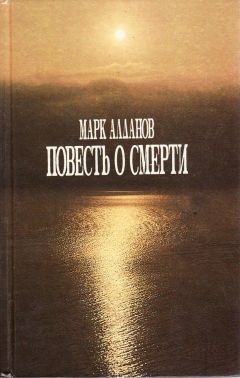В жарко натопленную комнату врывался морозный воздух. Мамонтов затворил форточку и надел халат, приведя рукава в порядок. Густо-синий цвет халата вызвал в его памяти вагоны первого класса. «Увижу теперь, что это такое… Во мне сказываются и черты „parvenu“. Это более чем естественно: дед крепостной», — как всегда, с мучительным чувством ненависти подумал он. В детстве он еще ездил по первым железным дорогам в вагонах зеленого цвета, потом, с ростом состояния отца, перешел на желтые и теперь впервые купил место в синем вагоне. «Завтра еду, как хорошо!» — опять подумал он, представляя себе все волнующее в отъезде: «П-п-пер-рвый звонок!», «Л-луга, Псков, В-вильна, В-варшава — втор-рой звонок!» ненужно-торопливую покупку газеты или папирос, ненужно-торопливый бег за носильщиком по перрону, затем радостное успокоение в уютной полутьме жарко натопленного вагона, отчаянный третий звонок — «Теперь звони сколько хочешь, я уже сижу!» — жуткий, точно случилось несчастье, свист, странно-слабый после звонков, ни для чего, наверное, не нужный звук рожка, нерешительно-тяжелый толчок, медленный уход вокзала, города, назад в пространстве и во времени — «кончилась глава!» — мысли о даме, сидящей в углу купе, о том, что будет к обеду, торжественное появление кондуктора с фонарем, с каким-то странным инструментом в руке, сообщение о близости большой станции, новый перебег по перрону с поднятым воротником пиджака, после морозного обжога счастливое тепло, радостная толкотня у буфета в освещенном зале, первая рюмка водки, поспешный выбор первой закуски.
В знаменитой гостинице были две ванные комнаты, которыми пользовались теперь англичане и американцы; русские предпочитали баню, а немцы находили роскошь дорогой. На пороге Николай Сергеевич вспомнил, что во внутреннем кармане пиджака остались деньги, вернулся (хоть тут ничего не крали) и сунул в карман халата бумажник. В нем были две тысячи рублей наличными и перевод в восемь тысяч на Ротшильда. С ними лежало и рекомендательное письмо к Бакунину. Его фамилия, разумеется, в письме названа не была. Из предосторожности не было даже имени-отчества в обращении. Вместо «Михаил Александрович» было написано «Mon vieux Michel»[2], хотя старик земец не так уж близко знал знаменитого революционера. Письма к Карлу Марксу достать не удалось: в Петербурге никто Маркса не знал, по крайней мере из людей, к которым мог бы обратиться Мамонтов. «Да Михаил Александрович сам вас направит к этому — как его? — к Марксу, ведь вы сначала едете в Швейцарию, а только потом в Англию», — сказал старый земец. «Вот тебе раз! Они лютые враги», — возразил Николай Сергеевич. «Лютые враги? — недоверчиво переспросил земец, — я думал, это одна компания». Мамонтову показалось, что он хотел сказать: «одна шайка». Он рассердился, но сдержал себя. «Ну-с, а что же вы, молодой человек, скажете о счастливом событии?» — прощаясь с ним, полусерьезно спросил земец. «О каком событии?» — «Я придаю ему большую важность: в первый раз Романовы сочетаются узами брака (он шутливо подчеркнул интонацией официальное выражение) с английским королевским домом. Все-таки, не говорите, родственные влияния имеют у них значение. Впредь британская конституционная монархия будет оказывать влияние на наше самодержавие. Возможно, что это начало новой эры в европейской истории». — «Отчего же только в европейской? В мировой, в мировой», — сказал Николай Сергеевич. «Не шутите, молодой человек, не шутите. Да, да, я знаю, ваше поколение не верит в положительную работу. Все у вас разрушай да разрушай! Вот вы не верите, а Гладстон верит! Ведь этот брак состоялся не без него, он как его в Палате приветствовал! К Гладстону вы лучше бы ездили, молодые люди, а не к Марксу и не к Бакунину…»
11 января великая княжна Марья Александровна, дочь императора Александра II, выходила замуж за герцога Эдинбургского, сына королевы Виктории. Этому браку всей Европой приписывалось большое политическое значение. По случаю свадьбы в Петербург приехали высокие особы из разных стран, каждая в сопровождении большой свиты. Высокие особы и важнейшие из приближенных лиц жили в Зимнем дворце. Для людей менее значительных были сняты комнаты в лучших гостиницах, в их числе и в той, в которой жил Мамонтов. В коридорах, в hall’e, в ресторане ему беспрестанно попадались люди в непривычных его взгляду иностранных мундирах. Каждый вечер устраивалась иллюминация на главных площадях и улицах столицы. Газеты печатали сообщения о завтраках, обедах, приемах, балах.
Николай Сергеевич вернулся в свой номер, дрожа от холода. «Бесполезно было бы утверждать, что ванна со льдом в январе доставляет удовольствие…» Он таким образом закалял волю. Теперь недурно было бы выпить четвертый стакан чаю, если бы не было совестно. Покойный отец, вернувшись с завода, выпивал целый самовар», — опять с неприятным чувством подумал он. Его отец скончался недавно, наследство все еще не было приведено в ясность: состояние осталось как будто немалое, однако очень запутанное. Наличных денег не было вовсе, был только завод и небольшое имение, приобретенное отцом на юге после получения дворянства. Долгов осталось много — в последние годы дела пошатнулись. Десять тысяч рублей, находившиеся в бумажнике Николая Сергеевича, были им взяты на год под вексель у купца-процентщика. Заключить заем было нетрудно, но купец, хорошо осведомленный о состоянии наследственного имущества, потребовал двадцать процентов годовых и уступил только два процента, которые, очевидно, собирался уступить с самого начала. «Велено потчевать, а неволить грех. Меньше не возьму, нельзя, Николай Сергеевич», — говорил он почтительно и твердо; он точно подражал изображающим купцов актерам Александрийского театра, — только что не разглаживал бороды. Мамонтов не умел торговаться. Подумал было, уж не взять ли в таком случае меньше: тысяч шесть? Решил все же взять десять, так как совершенно не знал, на сколько времени уезжает за границу и скоро ли будут закончены сложные дела, связанные с продажей завода (имение он любил и хотел оставить за собою).
Николай Сергеевич оделся, сел в кресло и развернул газету. В мире ничего важного не произошло, — он каждый день ждал, — вдруг прочтет сообщение о какой-нибудь революции или о походе за дело свободы, вроде гарибальдийских походов, о поводе, в котором можно было бы принять участие. Унылая непонятная гражданская война шла в Испании: маршал Серрано кого-то разбил наголову, — хотя как будто не очень наголову, — и требовал от французского правительства выдачи членов хунты, так как они не политические, а уголовные преступники, «Нет, в этой войне я участие не приму, — думал Николай Сергеевич с насмешкой одновременно и над собой, и над маршалом Серрано, и над хунтой (его смешило это слово), — вот и в этой тоже нет»; столь же унылая непонятная революция происходила в Сан-Доминго; кто-то свергнул президента Базца, президент поспешно бежал, а впрочем как будто не бежал: по крайней мере его представитель в Лондоне называл сообщение о поспешном бегстве президента гнусной клеветой врагов. «Скажем, бежал, но не поспешно. Я думаю, самому Бакунину такие революции не интересны». Дизраэли вел хитрый подкоп под Гладстона, и из Лондона шли слухи, будто положение либерального премьера поколебалось. Во Франции правительство получило, после жарких прений, довольно приличное большинство голосов: 393 против 292. В Японии возможен приход к власти либерально-консервативной партии Ивакура. Либерально-консервативная партия окончательно нагнала скуку на Мамонтова. Он заглянул в некрологи, — умирали все светлые личности и люди кристальной душевной чистоты. Впрочем, большая часть газеты была отведена торжествам бракосочетания, ожидавшимся в этот день обеду и балу в Зимнем дворце. «…При питии за здравие играют на трубах и литаврах и производится в С.-Петербургской крепости пальба: за здравие Их Императорских Величеств и Ее Величества Королевы Великобританской и Ирландской — 51 выстрел; за здравие Высокобракосочетавшихся — 31 выстрел; за здравие Всего Императорского дома и Августейших гостей — 31 выстрел; за здравие духовных лиц и всех верноподданных — 31 выстрел…» Ему нравилась пышность петербургского двора, хотя он при случае говорил, что это грабят русский народ. «Все-таки с их стороны очень мило, что они пьют за мое здоровье…»
Черняков, приглашенный Николаем Сергеевичем к завтраку «часов в одиннадцать», явился в одиннадцать часов. Аккуратность шла к его представительной, степенной, довольно грузной фигуре. Мамонтов почти во всем расходился с этим своим школьным товарищем, но любил его или, по крайней мере, любил проводить с ним время. От Чернякова веяло спокойным самоуверенным благодушием, основанным на прекрасном здоровье, на прекрасном аппетите, на прекрасно начатой университетской карьере, на совершенной порядочности, на непоколебимом сознании, что в мире ничего дурного с порядочными людьми не бывает. Он был очень расположен к людям, никогда не отказывал в услугах, но и не допускал, чтобы ему в них отказывали. Действительно, ему никто ни в чем не мог отказать. В двадцать девять лет он был видным приват-доцентом Петербургского университета, писал в журналах солидные статьи, где что-то разбиралось «в общем и целом» и что-то «проходило красной нитью»; он даже с некоторыми правами мечтал о политической карьере. Михаил Яковлевич был холост, состояния не имел, но зарабатывал недурно и, как сам сказал Мамонтову, «в трудную минуту всегда мог обратиться к сестре». — «Обратиться к сестре ты, конечно, можешь, но как отнесется к твоему обращению очаровательный Юрий Павлович, еще неизвестно. Поэтому в трудную минуту, которой у тебя впрочем никогда не было и не будет, лучше, право, обратись ко мне», — сказал Мамонтов. — «Ты глуп, — ответил Михаил Яковлевич, — Юрий Павлович, если хочешь, столп ретроградства, но прекраснейший человек, и я тебе раз навсегда запрещаю говорить о нем дурное».