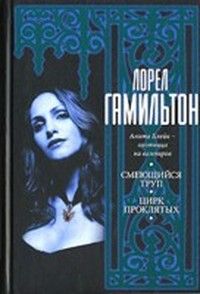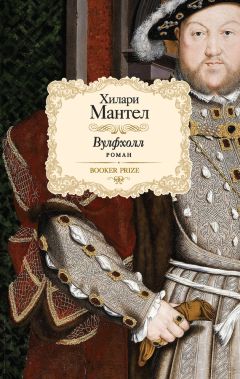Ганс присоединился к королевскому кортежу и нарисовал Анну-королеву, но та осталась недовольна наброском – ей теперь ничем не потрафишь. Нарисовал Рейфа Сэдлера с аккуратной бородкой и твердым ртом, в нелепой модной шапчонке на коротко остриженных волосах – она сидит набекрень и как будто вот-вот свалится.
– Сделайте мне нос попрямее, мастер Гольбейн, – просит Рейф, а Ганс отвечает: «Да где ж мне выправлять носы, мастер Сэдлер, я разве врач?»
– Рейф сломал нос мальчонкой, упражняясь в турнирном искусстве. Я еле выхватил его из-под лошадиных копыт. Ну и слез тогда было! – Он стискивает юноше плечо. – Не горюй, Рейф, по-моему, ты вышел красавцем. Вспомни, что Ганс сделал со мной!
Томасу Кромвелю сейчас лет пятьдесят. У него тело работника, кряжистое, ладное, полнеющее. В черных волосах пробивается седина; из-за белой кожи, которую не берет загар, врут, будто его отец был ирландец, хотя на самом деле Уолтер Кромвель был кузнец и пивовар в Патни, а еще стригаль, шаромыжник, в каждой бочке затычка, буян и задира, пьяница и дебошир, которого постоянно таскали к мировому судье за то, что он кого-то отдубасил, кого-то надул. Как сын такого человека добился нынешнего влияния – загадка для всей Европы. Одни говорят, он возвысился вместе с Болейнами, родственниками королевы. Другие – что Кромвель всем обязан своему покровителю, покойному кардиналу Вулси, у которого был доверенным лицом. Третьи уверяют, что он знается с чернокнижниками. Юность его прошла на чужбине, он был наемным солдатом, торговцем, банкиром. Никто не знает, где Кромвель побывал и с кем водил знакомство, а тот не спешит рассказывать. Он не щадит сил на королевской службе, знает себе цену и не упустит вознаграждения, будь то должности, привилегии, земли, усадьбы или дома. У него найдется подход к любому, целый арсенал средств: лесть и угрозы, подкуп и убеждение. Людям можно объяснить, в чем их истинный интерес, раскрыть глаза на такое, чего они о себе не знают. Всякий день королевский секретарь ведет дела с вельможами, которые, будь их воля, прихлопнули бы его, как муху. Зная это, он неизменно учтив, неизменно спокоен, неизменно усерден в делах Англии. Не в его обычае обсуждать свои достижения, но когда бы удача ни посетила его жилище, он всегда начеку и готов распахнуть дверь на первый же робкий стук.
В его лондонском доме портрет глядит со стены, темные замыслы упрятаны под сукном и мехом, рука сомкнулась на документе, как будто душит. Ганс тогда задвинул его столом, чтобы не сбежал, и предупредил: Томас, чур, не смеяться. Так и проходили сеансы: Ганс работал, мурлыча себе под нос, он яростно смотрел в пустоту. Увидев готовый портрет, он сказал: «Боже, я похож на убийцу», а его сын Грегори удивился: «Ты разве не знал?» Сейчас снимают копии – для друзей и для приверженцев из числа немецких евангелистов. Оригинал он не отдаст даже на время – привык я к нему, мол, – так что теперь, входя в дом, видит себя на разных стадиях становления: общие контуры, кое-где – подмалевок. С чего начинать Кромвеля? Одни начинают с маленьких пристальных глаз, другие – с шапочки. Третьи, избегая важного, пишут его печати и ножницы, четвертые выбирают кольцо с бирюзой, подарок кардинала. С чего бы они ни начали, общий итог один: если вы этому человеку досадили, лучше не встречаться с ним в темном переулке. Его отец Уолтер говаривал: «На моего Томаса косо не глянь – глаз выбьет. Подставишь ему ногу – останешься без ноги. А если его не злить, он форменный джентльмен. И стаканчиком завсегда угостит».
Ганс рисовал короля, благодушного, в летних шелках, за ужином: окна распахнуты вечерним ароматам и птичьим трелям, слуги вносят свечи и засахаренные фрукты. На каждом этапе пути Генрих останавливался в самом большом имении, и Анна-королева с ним, свита находила кров у местных дворян. По обычаю хозяева большого поместья хотя бы раз устраивают праздник для всех, приютивших у себя свиту. Это дорого и хлопотно. Он считал телеги с провизией, видел переполох на кухнях, сам вставал в серо-зеленый предрассветный час, когда печи вычищают, готовясь убрать в них первую партию хлебов, туши насаживают на вертела, котлы вешают на треноги, птицу ощипывают и разделывают. Его дядя служил поваром в резиденции архиепископа, мальчишкой он помогал в кухне Ламбетского дворца, о тонкостях ремесла знает не понаслышке. Когда речь об удобствах короля, за всем нужен глаз.
Эти дни превосходны. Каждая ягодка в колючей изгороди озарена и мерцает по краям. Каждый лист на дереве; солнце за ветвями висит золотым персиком. Мы спускались в зеленые урочища и въезжали на холмы, где в воздухе даже за два графства ощущается тревожная близость моря. В этих краях от наших предков-великанов остались земляные валы, рвы, вкопанные стоячие камни. В жилах каждого из нас, каждого англичанина и англичанки, есть капля их крови. В те давние времена, на земле, не тронутой овцами и плугом, они охотились на лося и дикого кабана. Лес тянулся на долгие дни пути. Иногда здесь откапывают орудия: двуручные топоры, одним ударом рассекавшие коня и всадника. Думай о мертвых исполинах, что ворочаются в этой земле. Имя им – война, и они ждут своего часа. Не только о прошлом ты думаешь, скача на запад в самый разгар лета, но и о том, что спит под травой, что зреет. Грядущие войны, скорби и смерть – все их, как семена, бережно хранит английская почва. Глядя, как Генрих смеется, как молится, как скачет в окружении свиты лесной дорогой, недолго решить, что на троне тот сидит так же крепко, как и в седле. Видимость обманчива. По ночам король не может уснуть, смотрит на резные стропила, считает свои дни. Спрашивает: «Кромвель, Кромвель, что мне делать?» Кромвель, спаси меня от императора. Кромвель, спаси меня от Папы. Потом зовет своего архиепископа Кентерберийского, Томаса Кранмера, и вопрошает: «Проклята ли моя душа?»
В Лондоне императорский посол Эсташ Шапюи каждый день ждет вестей, что английский народ взбунтовался против короля-самодура, спит и видит, как это произошло, не жалеет ни денег, ни сил, чтоб мечта претворилась в явь. Император Карл владеет Испанией, Нидерландами и заморскими колониями; Карл богат и по временам злится, что Генрих Тюдор променял его тетку Екатерину на Анну, которую в народе зовут пучеглазой шлюхой. Шапюи призывает императора вторгнуться в Англию, поддержать английских бунтовщиков, смутьянов и самозванцев, захватить безбожный остров, где король парламентским биллем развелся с женой и объявил себя Богом. Папе не по душе, что в Англии его высмеивают, называют «епископом Римским», что церковные доходы идут не ему, а Генриху. Булла об отлучении, составленная, но не провозглашенная, висит над Генрихом дамокловым мечом, превращает его в изгоя среди других христианских королей Европы – их настоятельно зовут пересечь Ла-Манш или шотландскую границу и прибрать к рукам, что глянется. Может, на папский призыв откликнется император. Может, французский король. Может, они оба. Хотелось бы сказать, что мы готовы их встретить, да только это не так. В случае вторжения нам придется выкопать кости великанов и лупить ими противника по башке. У нас не хватает пушек, не хватает пороха, не хватает стали. Вины Томаса Кромвеля тут нет; как говорит, кривясь, Шапюи, королевство Генриха было бы куда прочнее, назначь тот Кромвеля секретарем лет на пять раньше.
Если оборонять Англию – а он сам выйдет сражаться с мечом в руке, – то надо знать, что такое Англия. В августовский зной он стоит перед резными надгробиями предков, мужей, закованных в броню с головы до пят; их руки в латных рукавицах сложены на груди, ноги, одетые в сталь, покоятся на львах, грифонах, борзых. Каменные мужчины, стальные мужчины, их жены рядом – словно улитки в скорлупе. Мы думаем, время не властно над мертвецами, но время властно над изваяниями мертвецов: кого-то из них сделало беспалым, кого-то – безносым. Крохотная отколотая нога (от коленопреклоненного херувима?) застряла в каменной драпировке, на резной подушке лежит кончик большого пальца. «Надо будет на следующий год подновить предков», – говорят лорды западных графств, но их-то щитодержатели и геральдические фигуры, эмблемы и девизы всегда блещут свежей краской. Западные лорды кичатся прошлым своего рода: в этих латах мой пращур сражался при Азенкуре, эту чашу мой прапрадед получил из рук самого Джона Гонта. В войнах между Ланкастерами и Йорками их деды и отцы встали не на ту сторону, так что о недавних событиях лорды предпочитают помалкивать. Поколение спустя обиды будут забыты, слава восстановлена – только так Англия может идти вперед, не тонуть в грязи прошлого.
У него, разумеется, нет предков, по крайней мере таких, какими можно кичиться. Был некогда дворянский род Кромвелей, и герольдмейстеры убеждали его для приличия взять их герб; я не из тех Кромвелей, вежливо отвечал он, мне не нужны их девизы. Он сбежал от отцовских побоев пятнадцати лет от роду, пересек Ла-Манш, нанялся в войско французского короля – если дерешься с тех пор, как научился ходить, почему бы не делать это за деньги? Впрочем, есть ремесла поприбыльнее солдатского – он их нашел и решил не спешить на родину.