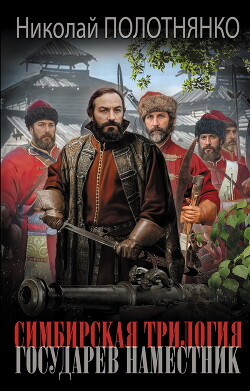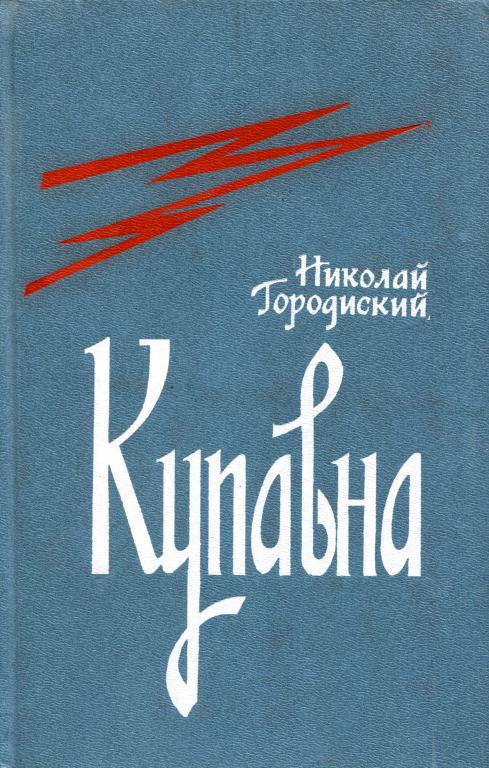которые держал в руках щуплый человек и яростно ругался. Калмык Урча, взятый казачьим разъездом в полон, был приставлен к овцам и жил вместе с ними в овчарне.
Волк раньше всех понял, что случилось, он повернулся, перебежал через реку и, достигнув бугра, хрипло и тоскливо завыл.
Продолжая ругаться, Урча выволок зверя за хвост на снег, и тут, наконец, всполошились крепостные собаки, здоровенные мордастые псы московской сторожевой породы, и начали бухать гулким лаем на всю округу. К Урче подбежали воротник и караульный стрелец.
– Что, нехристь, людей полошишь?
Увидели волчицу, удивились.
– Чем ты её?
Калмык молча указал на вилы и повёл караульщиков за собой в овчарню.
– Годи! Огонь принесу! – крикнул воротник и через несколько времени вернулся с горящим смольем. Они вошли в овчарню, четыре ярки были зарезаны, остальные жались в угол.
Подошли ещё несколько стрельцов, обступили волчицу.
– Матёрая бирючиха! Кто её завалил?
– Урча. Она ему на башку свалилась сквозь крышу.
– Клыки-то! Такая может руку напрочь откусить.
– Повезло Урче, да и нам, ребята, повезло – будет у нас на обед каша с бараниной.
Воеводскую избу построили наспех из непросушенных брёвен, и она промёрзла, стены курчавились инеем, от пола несло холодом. Морока была с печью, мужики, приписанные к войску, устройство белых печей не знали, хотели сложить такую же, как и в своих курных избах, но воевода Хитрово запретил. Велел кликнуть среди стрельцов и казаков, знающих печное рукомесло, и нашёлся один умелец, правда не ахти какой, сам всего один раз печь с дымоходом клал под присмотром мастера.
– Начинай, стрелец! – решился воевода. – Не глотать же всю зиму дым в избе.
Стрелец сладил печь, не из кирпичей, а из речной глины. Мял и бил её до плотности мягкого дерева, укладывал за слоем слой в промежуток между двумя постановленными один в другой дощатыми коробами, умудрился трубу вывести наружу, и, ничего, получилось. Наложили в печь дрова, поднесли огонь, и загудело пламя, заприплясывало. Богдан Матвеевич дал стрельцу полтину, тот деньги взял, но не уходил, смотрел на воеводу тоскующим взглядом, внушая ему своё, заветное. Воевода понял, чего хочет стрелец, рассмеялся и ткнул его несильно кулаком в бороду.
– Ступай! Подойдёшь на Рождество за лишней чаркой, а сейчас иди!
Печь хотя и не дымила, но оказалась страсть какой прожорливой. Стрелец, дежуривший в воеводской избе, подкладывал в неё дрова весь день, но к утру она выстывала и была холодной, как льдина. Устроивший возле неё свое ложе Богдан Матвеевич знал это лучше всех, к утру холод от печи проникал через овчину, которой он укрывался на ночь, и заставлял сначала ворочаться, а потом просыпаться и открывать глаза.
В комнате воеводы, которую для него выгородили досками в избе, было сумрачно. Лампадка на киоте едва всплескивала жёлтыми каплями огня, открывая взгляду голые, бревенчатые стены и белое пятно покрытого изморозью небольшого оконца. Хитрово поёжился, представив, как холодно в избе, откинул овчину, беличье одеяло, поднялся и сунул голые ноги в мягкие, с короткими голяшками валенки.
Богдан Матвеевич был искренне верующим человеком и всякий день начинал с утренней молитвы.
– К тебе, Владыко человеколюбче, от сна восстав, – проговаривал он негромко, – прибегаю и на дела Твои подвизаюся милосердием Твоим, молюся тебе: помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твоё вечное…
К воеводе вошёл с деревянной лоханью в руках для умывания его денщик, молодой парень Васятка. Он был дворовым холопом из калужской деревни Богдана Матвеевича и приближен им за весёлый нрав и сметливость.
Хитрово снял с себя спальную рубаху, умылся холодной водой и стал спешно одеваться. Хотя печь затопили, было зябко, и молодое сильное тело воеводы покрылось пупырышками. Он спешно надел шёлковые, затем суконные штаны, рубашку, зипун, натянул на ноги шерстяные, подбитые мехом чулки и высокие, до колен, сапоги. Васятка подал ему кафтан.
– Что нового? – спросил воевода.
– Урча волчицу вилами запорол. Она на него через крышу свалилась. Четырёх овец зарезала.
Хитрово недовольно поморщился. На зиму во вновь возведённой крепости осталось совсем мало скотины, ратным людям приходилось налегать на репу, капусту и овёс, мясное в котёл попадало по великим праздникам.
За перегородкой заскрипели половицы, это проснулся дьяк Григорий Кунаков, имевший привычку весь день находиться на ногах, он и свою основную работу – письмо делал стоя, за конторкой, укреплённой в стену избы.
– Григорий Петрович, – сказал Хитрово, выходя из своей комнаты. – Зарезанных овец определи под строгий караул.
– Уже распорядился, Богдан Матвеевич. Как почивал?
Кунаков был старым, по тогдашним понятиям, человеком, ему перевалило за пятьдесят лет, из которых около сорока он провел на государевой службе и не в тёплых и хлебных для мздоимцев московских приказах, а в полках на засечной черте, в государевых посылках в Литву и на Украину.
– Студёно, – Хитрово выдохнул клуб пара. – Распорядись, чтобы и ночью топили.
– Так пробовали. От этих истопников только шум да бряк, глаза не сомкнём.
– Как знаешь. Я в Москву отправляюсь, тебе всем распоряжаться.
В избу, окутанный клубами пара, вошёл стрелец с большой вязанкой дров, бухнул их с плеча на пол, открыл печную заслонку.
– Тише ты, чёрт! – рявкнул на него дьяк.
Стрелец недобро на него глянул, но смолчал.
– Я тебе отписки для приказов приготовил, – сказал Кунаков, подходя к железному сундуку, где хранилась полковая казна и самые важные бумаги. – В Разрядный, Казанского дворца, готовы и росписи всего потребного для обустройства черты.
Дьяк затейным ключом открыл замок немецкой работы, распахнул сундук, достал несколько свернутых в трубку грамот.
– Вычти, Богдан Матвеевич, может, я что упустил.
– Вроде все было обговорено, хотя вычту, по прежней службе знаю, что государь может потребовать к себе отписку, если сочтёт нужным.
В избу вошел Васятка с корзиной, покрытой белым полотенцем, принёс из поварни завтрак для воеводы и дьяка.
– Опять тёртый горох? – спросил Кунаков.
– Он самый, – ответил парень, выставляя на стол судок с кашей, несколько кусков вяленой сомятины и большой ржаной калач.
– Задушил ты меня, Васятка, горохом, – недовольно пробурчал дьяк. – Хотя бы стопку вина налил, горло смочить.
– Вино же под твоим доглядом, Григорий Петрович, – засмеялся Васятка. – Давай ключ от анбара, я мигом слетаю.
Воевода и дьяк были трезвенниками, хотя стали ими каждый по-своему. Хитрово сызмала понял пагубу винопития, а Кунаков своё отпил, и нутро не воспринимало хмельного.
– Ешьте горох, пока горячий, – сказал Васятка. – Казаки и стрельцы толокно трескают.
– А ты успел потрескать?
– Я