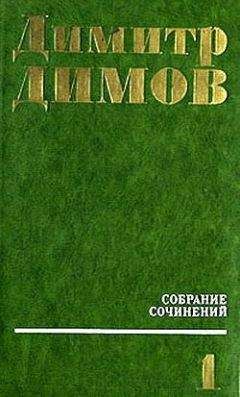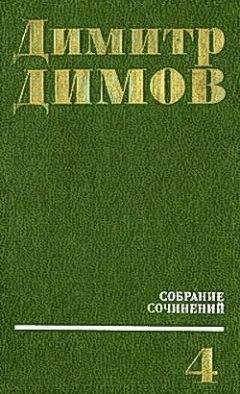Раненый глухо стонал. Кость над одним глазом была раздроблена, и монах пинцетом извлекал кусочек за кусочком из кровавого месива сплющенных мускулов. Время от времени он прибегал к местной анестезии, искусно манипулируя шприцем. Потом пришла очередь разбитых носовых хрящей. Наконец раны были вычищены и перевязаны, только рот и один глаз несчастного остались свободными от бинтов. Монах поднес руку к этому глазу и спросил кротко, голосом, бросившим Фани в дрожь:
– Братец! Ты видишь мою руку?
– Нет!.. Нет… – простонал раненый.
– Каррамба!.. Неужели? – спросил Лоренте, нагибаясь к нему.
– Да, сеньор! – подтвердил монах. – Он ослеп на оба глаза… От ран и от сотрясения мозга.
Фани и Мюрье выскользнули из комнаты, а рабочие мрачно склонились над раненым товарищем. Провокатора арестовали, у бездельника-американца отобрали паспорт, но Карлито, буйный и жизнерадостный Карлито, на всю жизнь остался во тьме…
Через полчаса постоялый двор затих. Сержант и солдаты гражданской гвардии уехали на мотоциклах, забрав провокатора Гилермо. Анархисты, получившие взбучку от Лоренте, повезли на грузовике раненого товарища в ближайшую больницу. Монах лег на общих нарах в нижнем помещении вместе с подозрительными оборванцами. Клара и Джек после продолжительной ссоры разошлись по своим комнатам и заснули. Мюрье отдался мрачным размышлениям о своей беспринципности, но вскоре тоже заснул. И только Фани бодрствовала.
Сначала она с возмущением думала о том, какой жестокий, хулиганский поступок совершил Джек, а потом ей стало казаться, что в этом путешествии под дождем, в бурю, в этом ночлеге на испанском постоялом дворе есть что-то страстное и возбуждающее, что-то тревожное и пьянящее, о чем она, наверное, будет вспоминать всю жизнь, как о тех незабываемых ощущениях ранней молодости, которые никогда не стираются из памяти. Фани блаженно улыбнулась этим чарам, этому бесконечно приятному чувству, охватившему все ее существо, когда монах во время ужина вошел в зал. Она знала, что это значит. Она старалась не признаваться в этом даже самой себе, заглушить в себе нечистый импульс, подавлявший все остальные, более высокие чувства, и не смогла.
Монах должен был ей принадлежать.
Это желание было внезапным и вульгарным, но разве она не может его осуществить? Эксцентричные порывы, необузданные прихоти, мгновенные капризы всегда управляли ее волей. Можно было предположить, что достоинство, с каким монах выносил насмешки американцев, его хладнокровие в стычке с анархистами, античная поза, в которой он стоял на коленях над телом раненого, вызовут у нее наичистейшее восхищение. О да!.. Все это ее восхищало. Но кто упрекнул бы ее за другие чувства? Мужественная красота монаха – такая южная и пламенная, фанатичный огонь в его глазах, аскетизм его тела и души уже разожгли Фани до безумия. В его личности было что-то притягательное, как в пароксизмах самой Испании, что-то экзотичное и таинственное, как позолоченные мрачные соборы под лазурным небом Андалусии. То, что она испытывала, было какой-то странной, доселе ей незнакомой смесью чувственности, романтики и возвышенного порыва, приправленной, разумеется, капризным желанием во что бы то ни стало заполучить монаха и еще – светским тщеславием. Ей казалось, что ради одной ночи с этим человеком она могла бы пожертвовать всем, что имела! Сейчас она испытывала мучительную страсть классического испанского Дон Хуана, севильского развратника, к девственной монахине. Не похожа ли Фани на Дон Хуана? Это было бы романтическое, пикантное, восхитительное приключение! Фантазия ее понеслась бурным потоком, сметая все препоны действительности. Она привлечет монаха своим обаянием светской соблазнительницы, между ними завяжется любовная игра, у него начнется борьба между духом и плотью; потом вспышки сладострастного воображения Фани наивно рисовали ей его падение в волшебной обстановке какой-нибудь черной, душной андалусской ночи, в келье монастыря, утопающего в мимозах, пальмах и апельсиновых деревьях; и вот наконец она, теша свое тщеславие светской женщины, рассказывает о своем редкостном романе в модных салонах или в интимном уединении с каким-нибудь новым интересным собеседником… Все это сейчас радовало, возбуждало и опьяняло Фани.
Изнуренная порывами своего воображения, Фани заснула только под утро. Когда она проснулась, комната была залита солнечным светом. Она встала и посмотрела в окно: был роскошный весенний день, но под ярким солнцем, под синим небом, которое теперь приобрело кобальтовый оттенок, кастильская степь была здесь такой же бедной, такой же бесплодной, красновато-бурой и песчаной, как и повсюду. На шоссе перед постоялым двором Джек копался в автомобильном моторе. Испанский бродяга, в лохмотьях, с сумкой через плечо, медленно брел, опираясь на палку, куда глаза глядят.
Фани быстро оделась и вышла в зал. Клара и Мюрье еще не появились из своих комнат. Рамонсита мыла пол, а хозяин, уже без серьги и живописного платка, с карандашом в руке что-то подсчитывал за прилавком. Фани подошла к нему и спросила, встал ли монах.
– О, он давно уехал, сеньора! – ответил хозяин.
– А вы не знаете, откуда он?
– Нет, сеньора.
– А его имя?
– Нет, сеньора.
– Разве вы не заносите имена постояльцев в книгу? – спросила Фани раздраженно.
– Кто станет обременять такими формальностями святого человека!.. – ответил хозяин.
– А Лоренте и полицейские не записали его имя?
– Не знаю, сеньора. Кажется, они предложили ему подписать акт об увечье, но потом решили, что лучше ему не подписывать.
Это Фани уже не интересовало. Она опять ушла в свою комнату и опустилась на стул. Монах исчез бесследно.
В скверном настроении, усталая и равнодушная, Фани села в такси, ожидавшее ее у входа в отель «Палас», чтобы ехать в суд.
Вот и наступил наконец этот полный напряженного ожидания день, когда должно было разбираться дело Джека, возбужденное Конфедерацией рабочих. Уже целый месяц все левые и правые газеты вели яростную полемику вокруг происшествия на уединенном постоялом дворе между Деспеньяторосом и Авилой. Наконец-то испанцы увидят, защитит ли республиканский суд своего гражданина, рабочего-литейщика Карлоса Росарио, или уступит нажиму чужестранных сил п освободит Джека Уинки. Коммунистические и социалистические газеты и с ними орган анархистов требовали примерного наказания виновного, в то время как правые поднимали оглушительный шум, протестуя против красной диктатуры в стране. Впрочем, эта диктатура ничуть не мешала им орать во всю глотку. Они даже ставили всем в пример героизм американца, который прибег к законной самозащите, чтобы отстоять честь своей невесты. Того, что Клара Саутдаун была теперь скорей невестой Мюрье, они не знали.
Было чудесное майское утро, и Мадрид утопал в весенней зелени. Трамваи весело звенели, птички щебетали, прохожие заигрывали с красивыми девушками, а те улыбались молча и сдержанно – как того требовало приличие – в ответ на эти вольности, на эти жизнерадостные испанские piropos,[29] не циничные, не оскорбительные, а просто веселые и изящные. Но дурное настроение не покидало Фани. Все казалось ей ненужным и скучным. Даже дело Джека ее почти не интересовало. Уже много недель она разыскивала монаха, но не могла его найти.
Целый месяц она напрасно колесила по горам Леона, Кастилии и Наварры, расспрашивала о нем хозяев постоялых дворов, всех случайно встреченных кюре, бродяг, постовых гражданской гвардии. Монах как сквозь землю провалился. Впрочем, глупо было думать, что Фани сумеет разыскать кюре, не зная ни его имени, ни местожительства. Только один раз она напала на неясный след. Хозяин постоялого двора «Вирхен де Ковадоига», близ Гредоса, вспомнил, что в его заведении ночевал один отец-иеузит, но без мула. Наружность его точно совпадала с описанием сеньоры. «Muy jovencito, muy саго е muy santo»,[30] – как объяснил хозяин. Но он тоже не внес его имени в книгу, несмотря на непреложное требование закона. Сам отец попросил его не делать этого. Разве мог он не внять просьбе божьего служителя? За это отец окропил постоялый двор святой водой и благословил больного сына хозяина.
Фани вернулась в Сан-Себастьян, где застала несколько писем: от Джека, от Клары и от Мюрье, а также от Лесли Блеймера. Писем своих друзей из Парижа она не дочитала – они были очень длинные и полные скучных подробностей, касавшихся предстоящего судебного процесса. Интересней было письмо Лесли, которому она поручила навести справки о монахе.
Когда Лесли надо было что-нибудь разузнать в Испании, он прибегал к падежному методу – действовал через аристократов. Итак, он обратился к одному набожному мадридскому идальго, дону Алехандро Винярон де ла Пласа, роялисту, поддерживавшему связь с толедским архиепископом. Дон Алехандро спросил его высокопреосвященство, как узнать имя монаха, разъезжавшего на муле в горах между Деспеньяторосом и Авилой. Архиепископ ответил, что это нелегко, потому что все деревенские кюре и монахи пользуются этим животным в горах. Все же дело значительно облегчилось, когда дон Алехандро сказал, что интересующая его особа – иезуит и, вероятно, врач. Тогда архиепископ посоветовал дону Алехандро обратиться к супериору иезуитов в Толедо, отцу Родригесу-и-Сандовалу. Вероятно, Лесли скоро сумеет сообщить Фани то, что ее интересует. В конце письма Лесли высказывал предположение, что, вероятно, этот монах – агитатор монархистов.