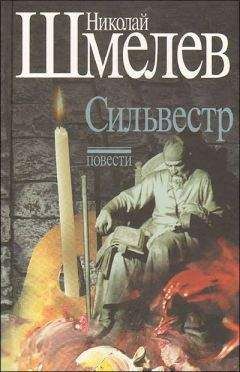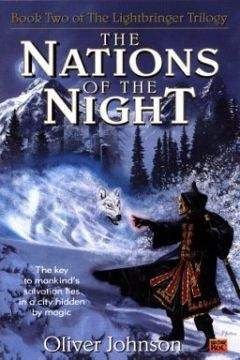И куда тебя несёт, старик? Вернись! Вернись, пока не поздно. Не лезь ты в эти дела, не для тебя они. «Богу богово, а кесарю — кесарево…» Знай Бога своего, паси своих овец, утешай и укрепляй душу человеческую в безмерном одиночестве её — и этого хватит тебе, до гробовой доски. Что знаешь ты, неуёмный, ты, самодеянный старик, о власти? О тайных пружинах, мира сего? О возвышении и гибели народов, век за веком! волна за волною бредущих куда-то, не ведая ни цели своей, ни пути?
Остановись, отче Сильвестр! Вернись домой; вернись к своей попадье, к детям своим, к «Домострою», что лежит, ещё не конченный, у тебя на столе… Нет-поздно! Первый луч солнца уже скользнул у них за спиной. и впереди заблистала Москва-река, а на ней, у самой кромки тумана, лодка с гребцами, уткнувшаяся носом в песок, и кто-то из гребцов уже машет рукой, заметив двух всадников, поспешающих к ним…
Поздно! Что ж, сам ты выбрал, старик, свою судьбу. Никто тебя не заставлял. Ну, а коли так — не обессудь.
Нет, не так представлял себе царь Иван этот Собор! И не этого ждал он от князей русской православной церкви, собравшихся по призыву его в Москве, в феврале 1551 года. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «если кто поклянётся храмом, то ничего: а если кто поклянётся золотом храма, то повинен…» Воистину вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Нет предела, видно, алчности человеческой. И не защита человеку от когтей дьявола ни сияющая митра, ни чёрный монашеский клобук…
А как хорошо, как славно начиналось всё два года назад! Какая чистая радость, какие надежды переполняли тогда сердце юного царя! И как любил он тогда людей, как верил в примирение и братскую любовь всего народа русского, очнувшегося вдруг от тяжкой смуты, от долгого беспамятства своего.
И сейчас ещё слёзы умиления подступали у него к горлу, когда он вспоминал те дни. Как вышел он, юный, стройный, во всём царском облачении и при всех клейнотах[30] царских, на Лобное место, как снял с головы своей державный венец, как поклонился в пояс всей многоголовой толпе московской, с утра на лютом морозе терпеливо дожидавшейся его…
— Прости, народ христианский! Прости и пожалей своего царя… Грешен я, люди, перед вами, и лишь на милость Господню уповаю я, стыдясь беспечности и непотребств моих…
И замерла толпа. И установилась повсюду недоуменная, тревожная тишина. И повалились вдруг все от мала и до велика в снег, на колени, обливаясь слезами, и радуясь, и страшась, и сокрушаясь о грехах своих вместе с ним.
Такого ещё не бывало на Москве! Царь, самодержец, наместник Бога на земле, просит прощения у людей, кается, скорбит, винит себя — и перед кем?! Не перед вельможными боярами, не перед синклитом церковным,[31] а всенародно, на Торгу, на Лобном месте, перед посадскими и чёрными людьми, перед простыми воинниками, перед бабами, стариками, нищей братией, перед детьми! Матерь Божия, царица Небесная… Услышь наши молитвы! Неужто сбудутся надежды наши, неужто обратил Господь сердце царское к людскому горю? Неужто и вправду встаёт над Москвой новая заря — заря успокоения, и правды, и любви? Ибо молод царь, и бездонна печаль его, и слёзы его чисты, и бесхитростен он в раскаянии своём, как малое дитя…
— Знаете вы, люди московские, что с малолетства остался я, горемычный, сиротой, — говорил царь. — И не было мне, государю великому, от бояр и советников моих воли ни в чём. И рос я, сирота, в забвении и небрежении, в обидах и слезах, и бывало, что и досыта не ел. А казну нашу царскую, рачительством и бережливостью предков наших великих нам оставленную, бояре наши расхитили и по домам своим разнесли. А земли и угодья наши и холопей наших, вольных землепашцев, бояре кому хотели, тому и раздавали, кому в вотчину, а кому в поместье. И многие обиды от такого их бесчинства учинились и детям боярским, и воинникам нашим, и всему православному христианству. А слово наше царское было что пустой звук, и ни послушания, ни смирения мы не видели от бояр наших, пока не привёл нас Господь в совершенные лета. И в некоторые дела нас, государя великого, не пускали бояре наши никогда-всё чинили на Руси самовластием и своеволием своим. И оттого воцарились по всей земле нашей смута и беззаконие великое, и раздоры. и скудость, и шатание, и разбой. И оттого ожесточилась душа моя и злонравие поселилось в сердце моём. Многими неправедными делами отягчил я, грешный, совесть свою, думая, отвергнутый и презираемый всеми: как вы, так и я-око за око, а зуб за зуб. И в том, народ русский, моя вина. И в том прощения я прошу у вас у всех…
Молча внимала царю толпа, и лишь тихие всхлипывания да глухой, натужный кашель нарушали порой морозную тишину, сковавшую площадь. Недвижно, словно окаменев, стояла стража, плотным кольцом окружавшая Лобное место. И молча, понурив седые бороды и потупив взор, стояли за спиной царя бояре, и военачальники, и митрополит, и духовенство, и разные дворцовые чины. А перед ними, покуда хватал глаз, простиралось море склонённых спин, и никто в той оцепеневшей, простёршейся ниц толпе не смел ни пошевелиться, ни оторвать голову свою от земли.
— Велика вина и обидчиков моих, — говорил царь. — Но не к мести зову я вас, православные. Не мести жажду я, не крови виновных передо мной и перед тобой, народ московский… Прощения! Прощения и примирения жаждет душа моя. И не кровью, не топором, а любовью и кротостью будем мы крепить державу Российскую, вручённую нам Богом. Да воцарится в земле нашей правда, да обрящет всяк живущий в ней милосердие и милость царскую по делам и заслугам своим! Да прекратятся в городах и весях наших насилия, и бесчинства, и неправедный суд злых наместников и тиунов, и да станет весь народ русский заодин! Клянусь: ни единая обида, ни единая слеза убогих и обиженных не пройдут впредь мимо меня. Но и тебя прошу, народ московский: отложи брань и междоусобие, и корысть, и злобу к соседу своему, и всякую другую неправду, отчего стон стоит по всей нашей земле… И не думайте, сильные мира сего, живущие в бесстрашии, что призыв мой от слабости моей! Кончилось ваше время! Кончилось ваше своеволие. Отныне и впредь одна только воля и есть в державе Российской — то воля моя, господина вашего, помазанника Божия, царя и самодержца всея Руси! Либо пойдёте вы вместе со мной, куда поведу я вас, пастырь, Богом вам данный, либо опала вам и гнев мой! И не ждите тогда пощады ни от меня, ни от народа моего. Не ждите! Бога, народ московский зову в свидетели- не будет вам её!
Умолк царь. Умолкло и улеглось где-то там, у древних стен кремлёвских, эхо от юного, звонкого голоса его. И сейчас же взорвалась, взметнулась заснеженная площадь ликующими кликами, и вскинулись люди московские с колен, и бросились к подножию Лобного места, тесня стражу и не обращая внимания на бердыши, чтобы только протянуть к нему, государю великому, молящие руки, чтобы только коснуться носка его сафьянного сапога.
И плакал царь, не скрывая и не стыдясь своих слёз. И плакали седобородые, многое повидавшие на своём веку бояре его. И рыдала, всхлипывала, выкрикивала бессвязные слова толпа, охваченная неведомым ей прежде чувством единения и братской любви. «Слава! Слава! — гремело на площади. — Живи, государь! Царствуй на благо державы своей! А мы все дети и слуги твои…»
А потом в Кремле, в Грановитой палате, чудной красотой и благолепием своим, заседал Собор лучших людей Русской земли — и митрополит, и епископы, и думные бояре, и дворцовые чины, и дети боярские, собранные из Москвы и иных городов по царскому прибору, смотря по заслугам и достоинству кого. Многие дни сидел тот Собор, прозванный людьми Собором примирения. И о многих великих и многотрудных делах говорилось на том Соборе, и о многих надеждах и намерениях своих поведал тогда царь ближним своим людям.
Сидели бояре и первосвященники, думали, потели в шубах своих, качали седыми своими бородами, пряча от царя и друг от друга насмешливую ухмылку либо сомнение, что то и дело вспыхивало у них в глазах в ответ на горячие, непривычные задором своим речи царские. Но настойчив был царь в прямых и жёстких вопросах своих, и не было в них ни попрёков, ни укоризн, а была лишь боль и горькая печаль о великом нестроении российском. И каждый, кто сидел на том Соборе, понимал, что нет, не отсидеться ему нынче, не отмолчаться, как в былые времена, не спрятаться за спины других, а придётся в конце концов и ему высказать, что у него на душе, — не отстанет царь и от него.
А в дальнем конце палаты, ниже всех, на угловой скамье сидел незаметный тихий человек — малознакомый кому прежде благовещенский протопоп Сильвестр. А рядом с ним на той же скамье, внимательно вглядываясь в лица говоривших, сидел другой малоизвестный человек, стольник царский Алексей Адашев-ныне постельничий царя и начальник Челобитной избы. Но хоть и не велики оба они были по достоинству своему, а нет-нет да и бросали многие родовитые бояре и могущественные иерархи церковные тревожный взгляд то на одного, то на другого из них, пытаясь угадать, что же у них на уме. Знал Собор, что и речь царя на Лобном месте, и речи его на самом Соборе готовил тот тихий протопоп. И знал Собор, что никакие важные дела не шли теперь мимо того сурового, строгого юноши, включая и самые тайные бумаги, что сносились обычно прямо к царю, в его постельничью казну.