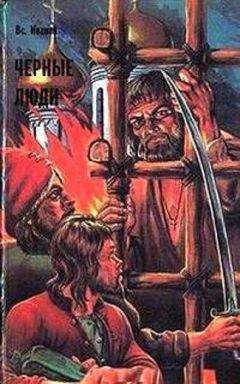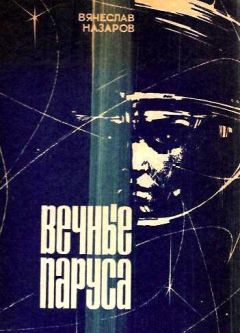Алексей придержал шаг:
— А стрельцы, Иваныч?
— Государь! Стрельцы от посадских людей недалеко ушли! Тоже на земле пашут да промышляют кто чем. Торгуют. Ведомо мне, что и они смутны. Сторожа Кремлю нужна, государь, надежней, чем стрельцы… Кто на земле сидит, тот и бунтовать может. Надежней тот, кто на жалованье состоит!
— Стрельцов на жалованье? — снова задержался Алексей.
— Ни, государь. Иноземные люди надежнее. Рейтары! Солдаты! Кто их кормит, они тем не изменяют. Им ведь бежать-то от тебя, государь, некуда. Их и брать надо!
— Да их мало, иноземцев-то!
— Государь, иноземные офицеры — как столбы. Наши люди — как заборы на тех столбах. Немцы — они удержат, в них отчаянности нету!
— Своих на чужих менять, а? Лютеров на православных?
— Господи, помилуй! — вдруг завизжал попугай.
Морозов глянул на птицу, качнул головой.
— А что римские государи говаривали? Раздели и властвуй! Нужно крепких подымать да давить ими на шатущих! Тогда и будет крепко.
Алексей остановился, смотрел на Морозова.
— А чем их за службу жаловать? Деньги-то где?
— Найдем, государь, — хитро улыбнулся Морозов. — Еуропа у нас все купит, серебра даст. Надо только, чтобы наши мужики то работали, что Еуропе нужно…
— А им самим хлеб кто даст?
— А, потерпят! Народ терпелив. За границу поболе продадим. Зато рать учредим как надо. Да твое дело, государь, крепче будет. Войска не в стеганных тегиляях, а, как у поляков, у шведов, в латах. Не с саадаками, не с лучным — с огненным боем. А как, государь, войско заведем — садись на белого коня, как святой Егорий! Наши православные пойдут, только кликни клич! Лихолетье помнят.
Морозов достал из-за пазухи книгу в красном бархате:
— Смотри-кось, Алеша, что я тебе достал!
На титульном листе было красиво отпечатано: «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Государь царь и великий князь Алексей Михайлович своим бодроопасным рассмотрительством повелел напечатать сию книгу к ратному строю пехотным людям».
Морозов улыбался, поглаживая бороду.
Царь листал тугие страницы. Полный порядок воинский в книге указан — как приказанья громким голосом подавать:
«— Направо обворотись!
— Налево стань по-прежнему!
— Направо обворотись!
— Налево стань по-прежнему!
— Раствори шеренги!
— Сомкни ряды налево да направо!»
— Чти здесь, государь, — говорил Морозов, тонко улыбаясь. — Вот тут! — указал место в книге. — Все показано, как гораздо воевать! Прямо перед очами поставлено, «чево много сот годов скрывали было, а против того — было скрыто от всех и погребено». Это первая книжица тебе, а еще будет таких четыре ста. Дюже печатный наш двор работает!
— Добро, Иваныч, добро!
Лицо царя приняло мечтательное выражение.
— Если нашим медведям да настоящее оружье дать, как надо, они, пожалуй, всю Еуропу сомнут, ежели нужно. А? Иваныч? Сомнут?
— Сомнут, государь! Обязательно!
— Тогда меня во всей Еуропе царем признают! А то што? Смотри, пожалуй, как шведы мне до сей поры пишут: «Великому князю Московскому». Поляки — те тоже титулы наши неправо пишут. Им наши послы указывают, а они смеются. Кто-де вас, русских, разберет, какие у вас цари, с чего?
А у меня твоя-то грамота ныне всегда при себе! — Алексей поднял со стола золотописьменную патриаршью харатею. — Знаешь что, Иваныч! Мы всех святых патриархов к себе созовем, в Москву. Пусть меня утвердят всемирно! Поедут патриархи к нам, Иваныч, а?
— Их только помани! — тонко улыбнулся Морозов. — Бедные ведь они, под турками, а у нас сила будет, так ее можно и против турецкого султана повернуть. Придут, государь, патриархи.
В волнении царь Алексей закрыл глаза, истово перекрестился. Боярин Морозов смотрел на него отечески снисходительно.
Алексей открыл глаза, тряхнул головой, чтобы избавиться от сладостных видений, зашелестел в бумагах на столе.
— Иваныч! Вота тут роспись, — говорил он деловым голосом. — Отдай-ка тому аглицкому посланнику, что намедни был. Пусть купцам своим скажет, что бы в Архангельск нам бы привезли весной. «Достать царю кружев на конец штанин, как испанский король, и французский, и цесарь ходют. Да протазанов[42] золоченых, как, сказывают, перед ними носют. Также и рукавиц хороших и нитяных, как королевы носют, и попон королевских, бархатных и тканых. Да труб и литавров королевских же, и тронов королевских разных государей на листах рисованных, да обойку всю для палат, и карет дорожных». Пусть всего привезут.
Помолчал и коротко, скромно добавил:
— Карет-то я это для походу, ежели, Иваныч, воевать случится!
Борис Иваныч понимающе кивнул головой.
Царь Алексей медленно перешел комнатку к своему месту, сел, закрыл лицо руками.
— Ин ладно! — сказал он. — Верши дела, боярин. Надумаю! Да поезжай к себе, устал, надо быть, а?
— И то устал, государь! — ответил Морозов. — Дела не оберешься. Да скоро отдохнем! — сказал он с особенной улыбкой, снова вытирая платком бритую голову под тафьей. — Будем вот свадьбу твою играть!
Под его взглядом в упор потупился царь Алексей.
— Это дело другое! — молвил он и выговорил тихо: — Как она? Марья-то?
— Ждет не дождется!
— Иваныч, да ведь это же грех, незамолимый грех. Патриарх-то Иосиф чего говорит? А?
— Патриарх-то стар старичок, государь, а люди говорят другое: в баню сходить — грех смыть. Сводим, государь, тебя в баньку-то! — посмеивался Морозов. — Ну, прости, государь.
И, ударив челом, боярин, пятясь, исчез за дверью.
— Господи, помилуй! — вдруг опять заверещал потревоженный попугай, залопотал что-то, заклекотал.
Царь вздрогнул, остановился.
— Дьявол! — прошептал он, крестясь. Потом подошел к медной клетке, набросил на нее легкое покрывальце. — Спи, дурень!
И ушел в Крестовую, где отдернул завесу, затеплил несколько свечей. Стало светлее, легче.
Боярин Морозов уже ехал тем временем в каптане в свои новые хоромы. Пошел снег. Добрые кони ровно мчали неуклюжий, грохочущий возок, сквозь слюдяное окно мелькали слабые светы кремлевских дворов.
Снег над Москвой все гуще и гуще свисал густой сеткой, всюду мерцали в окнах огоньки — свечки, лучины, — ремесленники сидели запоздно по избам, горбя спины над урочной работой. Завтрева придет день, брюхо вчерашнего не помнит, новый день — новые дела, новые заботы.
Работали бессонно и на Печатном дворе.
В низкой печатной палате с круглыми сводами горели сальные свечки. Двое широкоплечих, густобородых, стриженных под горшок мужиков с ремешками на волосах возились около неуклюжего печатного стана, слаженного из крепких дубовых плах, вымазанных в типографской жирной краске, поблескивал пресс. За листом лист два гиганта клали под пресс, затем, напружив могучие, в закатанных рукавах руки, жали винтом, делали один оттиск, ослабляли винт, вынимали лист, закладывали другой, делали оттиск— и так во всю длинную ночь.
За дубовым столом сидел очередной справщик[43], монах Чудова монастыря Клементий, длинный, сутулый, носатый, в разбитых очках на веревочке, прямые волосы свешивались на лицо. Покуда не было дела, он жадно читал светскую книгу, только что выданную в свет, — «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Улыбался, щуря набрякшие глаза. Это было что-то совсем новое. Небывалое. Иное. Смешное.
Справщик покачал головой. Какое дело выходит! До последнего времени на Печатном дворе только слово божие печаталось, а теперь мирские слова пошли — как на войне воевать да курей чужих воровать. Видно, последние времена и впрямь приходят. И это все от царя!
Государь тоже долго не спал в эту снежную ночь. Он лежал в Постельной на своей кровати, горела свеча, на ковре сидели, скрестив худые ноги в лапотках, в холстинных онучках, двое древних стариков — один, с гуслями, играл нежно, другой, вытянув жилистую шею, пел жалостный стих:
…Приходил млад царевич Асафий:
— Прекрасная мати Пустыня,
Любимая моя мати,
Прими меня во пустыню,
Я рад на тебя работати.
Земные поклоны исправляти! —
Отвеща ему мать Пустыня,
Ко младому царевичу Асафью:
— Не жить тебе во пустыне!
Кому же владети твоим вольным царством?
Твоей белокаменной палатой?
Твоею казною золотою?
«И верно, — думал Алексей Михайлович, — кому же, кроме меня? Не видать мне прекрасной пустыни! Или Никон, архимандрит Новоспасский, поможет? Укажет праведный путь?»
Глава восьмая. Деловой день
Перед самым Рождеством крепко ударил мороз, утренние дымы всходили из труб сизыми столбами, березы в инее розовыми кудрями повисли в голубом небе, за Москва-рекой по желтой заре выкатывалось алое солнце. Часы на Спасской башне пробили один раз — первый час наступившего дня.