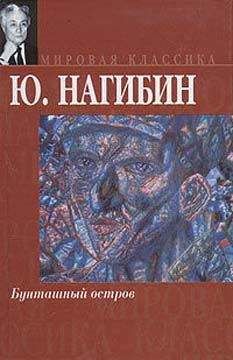Не менее спокоен оставался и сам Филипп. «Укротись, государь, ты в храме Божьем, а не на псарне», — отвернулся и продолжал службу…
…Царь Иван был словесной мудрости ритор. Крепко уязвило его, что не смог он побить Филиппа словом. Явившись в храм в другой раз, в ответ на обличения митрополита сказал громко и надменно: «Царь волен жаловать своих холопов и казнью волен их казнить!» На что Филипп тут же обронил чуть не с усмешкой: «Се словеса, достойные не царя, а вотчинника». И никто в храме не понял, какую жестокую рану нанес он царю. Иван был первым русским государем, узревшим в себе царя в библейском смысле: помазанник Божий. До этого не поднялись ни его отец, ни дед. Слова Филиппа низвергли его с высоты, в ничтожество удельного княжения. Онемев от гнева, царь не знал, что сказать, и, боясь новых беспощадных, бьющих в самую грудь, в болящее сердце слов митрополита, обретя речь, залепетал почти жалостно:
— Молчи!.. Только молчи, об одном прошу, молчи, святой отче… Не доводи до греха… И благослови нас…
— Наше молчание грех на душу твою наложит и смерть ей наманит!..
Как звучен его голос и как гулок высокий собор!..
— Ближние мои восстали на меня, ищут мне зла… Какое тебе дело до наших предначертаний? — беспомощно бился царский голос, не поддержанный отгулчивой мощью соборных сводов.
— Митрополит Даниил, щеголь и златоуст, усугубив лукавство и гнусь учения осифлян, сравнил царя с Богом. Единственно, чтобы церковное имущество соблюсти ценой достоинства духа. Царь есть человек и Богу ответчик, как любой его подданный, не заблуждайся в сем. И не будет тебе от Бога благословения, покуда не покончишь со своими мерзостями.
Так и отвалил Иван ни с чем, унеся злое унижение в душе. Но не угомонился и снова попробовал скрестить с митрополитом словесное оружие: «Ты вотчинник, а не самодержец Руси…» — против такого бессилен был кинжал ножебоя Малюты. Царь напомнил митрополиту о величии Руси — Третьего Рима. Не ему, Ивану, кровь надобна, а государству великому. Филипп ответил тихо, не как пастырь, а просто как старый, усталый человек: «Коли так и дальше пойдет, не много от твоего Третьего Рима останется. Выдашь ты Россию головою врагам». — «Не шуткуй, поп! — взъярился Иван. — Сам знаешь, с таким народом нельзя иначе. Он лишь язык огня, железа да пеньковой захлестки понимает. Чем больше истребишь, тем лучше. Остатние будут воском в руках рачительного и вдаль глядящего государя».
— Христос на камне, не на крови строил церковь свою. А под камнем-петросом подразумевал любимого ученика Петра, апостола и рыбаря. Когда же на крови людской свое царство строишь, не нужно оно.
— Как не нужно?.. Что ты мелешь?..
— Нельзя убивать нынешних, чтоб завтрашние мед пили и сладким куском заедали. А коли не настанет завтрашний день, чем оправдаешь ты нынешние злодеяния? А и настанет, так без меда и без куска сладкого.
— Это почему же?.. — От гнева ли, нетерпения ли, просто непривычки к словесному ристанию Иван не находил даже тех сумбурных, горячечных, но сильных чувством и убеждением слов, какими разил — да не сразил — Курбского.
— А ты, царь, и приспешники твои сами весь мед выпьете и все брашно слопаете, некому будет убыль пополнять. И во всех делах будешь ты терпеть поражение: и в ратных — опричники твои лишь с посадскими женками воевать горазды, и в междоусобных — кого ты к государям иноземным пошлешь: срамника Басманова или дурней Грязных?..
— Замолчи! — Царь Иван опрометью кинулся вон…
И тут ближние царю люди заметили, что появилась в нем какая-то робость перед Филиппом. Иван, при всей безобразности своих поступков, при всем презрении к церковникам, при всей преступности, которую не осознавал до конца, был и богобоязнен на свой лад, и главное — суеверен. Ему представлялось, что бесстрашие Филиппа коренится не в свойствах его натуры, а в неких явленных тому свыше откровениях. Ивану ничего не стоило разделаться с любым служителем церкви, но он не решался — при всей душевной ненависти к митрополиту — не только прикончить его, но даже низложить. Страшился прикрывающей Руки…
О том догадался духовник Ивана, протопоп Благовещенского собора Евстафий, тайно ненавидевший Филиппа. Он посоветовал царю направить в Соловецкий монастырь духовное посольство для уличения бывшего игумена в злоупотреблениях, мздоимстве, нарушениях устава и даже чернокнижии. «Не нарушал он ничего, — сумрачно возразил Иван, — зря злоречествуешь. Нешто и так не видно, что святой жизни этот мерзавец?» — «Пошли, великий государь, — настаивал Евстафий. — Я верных пастырей подберу, от их зоркого и чистого глаза ничего не укроется, они сквозь стены неправедность разглядят». — «Посылай, — подумав, согласился Иван, — может, и впрямь черно крыло над Филиппом».
В позорном посольстве не побрезговали принять участие епископ суздальский Пафнутий, архимандрит Андрониковского монастыря Феодосии и князь Василий Темный.
Провалился бы злой умысел Евстафия, ибо вся братия как один свидетельствовала в пользу Филиппа (даже мнившие себя обиженными, утесняемыми им), что беспорочной, святой жизни был игумен, ангельски чистый во всех своих делах, во всех движениях сердца перед Господом Богом, наиусерднейший в молитве и службе, — да выручил бывший келарь, ныне настоятель Соловецкой обители Паисий. Он дал понять, что за епископский сан берется уличить Филиппа в любом преступлении. Прихватив Паисия, посольство борзо покатилось в обратный путь.
Царь Иван обладал ценнейшим для властителя его толка свойством: искренне верить любой лжи, любой клевете, любому лжесвидетельству, если это было ему выгодно. Он мог сам измыслить оговор, навет, клевету, сочинить подметное письмо, донос, но, ознакомленный с собственным вымыслом, он испытывал нелицемерный гнев, возмущение, ярость, горе, злейшую обиду на людское вероломство. Так случится в свой час с Новгородом, когда царю доставят им же продиктованное предательское письмо новгородцев, так было, когда хорошо натасканный Паисий предъявил Филиппу в присутствии двора и духовенства свои обвинения.
— Ну, что скажешь на это, Филипп? — произнес Иван дрожащим от негодования голосом. Страх перед митрополитом напрочь покинул его — перед ним был грешный, порочный, нагло-злоязычный человечишко.
Филипп не ответил. Он поглядел на бывшего келаря, на его мясистые красные щеки, увлажнившееся в глубоких ложбинах чело, на выпуклые глаза в кровяных прожилках, на бесстыдно-жалкое лицо предателя и тихо молвил: «Злое деяние не принесет тебе плода вожделенного».
Паисий вспомнит о вещих словах митрополита, когда через полгода после исхода Филиппа будет заточен по приказу царя в отдаленный монастырь, где и кончит позорные дни свои.
— Ты не шепчись, Филипп. Ты перед своим государем ответ держи. Или язык отсох?
— Ответ мне не перед тобой держать, — спокойно отозвался Филипп. — Думаешь, я боюсь тебя или смерти? Нет! Достигнув старости беспорочно, не знав в пустынной жизни ни мятежных страстей, ни козней мирских, желаю там и предать дух свой Всевышнему, моему и твоему Господу. Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония сего несчастного времени. Се жезл пастырский, се белый клобук и мантия, коими хотел ты возвеличить меня!.. А вы, святители, архимандриты, игумены, все служители алтарей, пасите верно стадо Христово, готовящася дать ответ и страшася небесного огня пуще огня земного.
Сказав так и сложив с себя знаки сана, Филипп хотел уйти. Будто завороженный его речью, царь вдруг очнулся, сжал ладонями худые виски и, приподнявшись на троне, крикнул:
— Стой, Колычев! Опять бежать вздумал?.. Уйти от расплаты?..
— Нет, государь. Я давно уже не Колычев-бегущий, а Колычев-обличающий. Неужто ты до сих пор не постиг?
— Это ты обличен будешь — еретик, чернокнижник, антихристово семя!.. — Иван вытянулся в рост, его шатало. — И не сам собой судим, а учрежденным нами судом. А до тех пор неси свою службу… забирай святительскую утварь… Отслужишь обедню в день архангела Михаила. Слышишь?.. — Голос Ивана пресекался, казалось, он сам не вполне сознает, что говорит.
— Трус ты жалкий, Иван Васильевич, — брезгливо произнес Филипп.
— А ты… ты… — Иван задохнулся, не в силах найти единственное клеймящее слово. — Ты… — В провидческом озарении явились ему костры, на которых сжигают крамольные книги, гигантские печи, исходящие густым черным дымом из рослых труб; в отверстые двери, в багровое озарение втеснялись голые люди: мужчины, женщины, дети, бунтовщики против власти, идущие в купель огненную, и вдруг сие отрадное зрелище омрачилось: откуда-то выросла столь знакомая Ивану ненавистная тощая фигура, и была она выше самых высоких труб; Филипп дул на костры и гасил пламя, не давая испепелить богомерзкие книжки, он дохнул на печи и погасил очистительный огонь, и нагие грешники кинулись врассыпную, только матери подхватили своих детей. «Убрать его!» — хотел приказать Иван, но голоса не было. Его никто не слышал и никто не слушал, а Филипп плыл над землей, неуязвимый, вечный, и, собрав себя нацельно, Иван крикнул во всю силу легких в лицо митрополиту невесть откуда взявшееся, непонятное ему самому, страшное слово: — Интеллихент!.. — и, пав на пол, забился в судорогах, из стиснутых зубов выдувались пузырьки пены. Малюта склонился над государем, кинжалом разомкнул сцеп челюстей, свободной рукой вытащил наружу желто-обметанный язык, ибо при таком приступе государь мог им подавиться. А потом братья Грязные подняли странно напружинившееся, но спокойное, легкое тело и понесли в царскую опочивальню. Каждый из них мог бы и в одиночку без труда справиться, но то обернулось бы в унижение государю, который при скупости плоти был тяжеленек за счет толстых костей, особо же обмякнув после пьянства, но тут, натянутый, как тетива лука, странно полегчал.