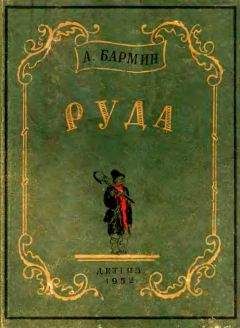Маремьяна тихонько усмехнулась — не словам сына, а тому, как он говорил: важно, по-взрослому. Видно, кому-то подражал.
— Доброе начало, сынок, — похвалила она. — Половина дела, говорят, когда доброе начало.
Отошла к печи и принялась за прерванное приходом сына дело — разводить коровье пойло.
Лизавета, осмелев, взяла один камень и уселась с ним на пороге. Стала играть: осторожно водила пальцем по гладким граням, прикладывала к щеке, пробовала даже говорить с ним.
— А что! — расходился всё больше Егор. — Я с этими камнями прямо к главному командиру пойду. Не находка, что ли, для первого разу? Мне теперь жалованье положат подходящее. Лошадь дадут, припас настоящий. Можно будет далеко забираться. А то какой я был поисковщик! По задворкам только искать. А тогда проберусь в нехоженые места, найду медную руду. Эх, медная руда! Сколько человек ее искали, — а заводы все на старых рудниках, как спервоначалу были. Инструкцию нам читали: медная — первейшее дело…
Увидел, что мать поднимает ведро, подскочил, взялся за дужку:
— В стойло нести или у крыльца поишь?.. Найду руду — квартиру мне дадут в офицерских дворах, в крепость переберемся. Посторонись-ка, Лиза, оболью!
Вставая, Лизавета выронила самоцвет.
— Не потеряй ты! Мама, возьми у нее камешек.
Лизавета цапнула камень и зажала в кулаке:
— Мой, не отдам!
— Лизка, не дури. — Егор встревожился. Поставил пойло у порога и схватил Лизавету за руку: — Что выдумала, — «твой»!
— Мой. Мне принес. У тебя еще есть. — И улыбалась просительно. А Лизавета редко чего просила.
— Отдай, Лиза, — сказал Егор. — Ну, дай. Все пять надо главному командиру отдать. Он велит Рефу, гранильному мастеру, их изладить. Потом пошлет в Санкт-Петербурх, царице. Может, сама царица эти самоцветики носить будет.
Лизавета как швырнет камень на стол — и в слезы:
— Царица? Опять царица! Всё царице!
Маремьяна стала ее унимать. А Егор камни свои прибрал и спросил шутя:
— Чего это она с царицей не поделила?
— Ой, хоть ты-то молчи, Егорушка. А то угодишь ни за што, ни про што в гамаюны.[23] Я тебе и сказывать не хотела, что у нас тут было. Чуть я со страху не померла.
И тут же рассказала. Случилось это дня за три до возвращения Егора. Маремьяна перекапывала огород у своей избенки. Из крепости разливался праздничный колокольный звон. Царский день был — шестой год благополучного царствования императрицы Анны Иоанновны. Ох-хо, благополучного… Маремьяна только и сказала Лизе: ладно ли, мол, делаем — в огороде работаем в царский день? Не вышло бы чего.
— Посмотри-ка, Лиза, как соседи, Берсениха да Шаньгины, работают ли?
Лизавета сходила, говорит, — работают. А потом и привязалась к слову: почему день царский?
Маремьяна ответила спроста:
— Всё, Лиза, царское. И заводы царицыны, и земли.
— И деревья?
— Ну, что деревья! И мы все царицыны, не то что деревья.
— И ты?
Лопату воткнула, оставила. Подошла к Маремьяне, потрогала ее рукой, поглядела на нее, не веря. И горько заплакала. Маремьяна вздохнула и сказала:
— Зря ты, Лиза! То и ладно, что мы царские, а не барские. За помещиком еще хуже быть.
Этого Лизавета не понимала, а пуще всего плакала оттого, что и деревья царицыны.
— Я бы эту царицу палкой! — выдавила сквозь слезы, размазывая грязь по щекам.
Маремьяна оглянулась по сторонам. Никого, слава богу! Хотела Лизавету поучить, чтоб не брякнула так при людях, да подумала: к чему — завтра же всё забудет. И тут же придумала, как утешить:
— А солнце-то! Вон как любо светит! Солнце, оно не царское.
— Мое?
— Твое-о, Лиза, твое.
Только всего и разговору было. Лизавета успокоилась, высушило солнце ее слезы. Взялись обе за лопаты. И вдруг — глядь: идут к их избенке двое. Драгунский капрал, видать по мундиру, а другой подканцелярист из полиции, — этого Маремьяна и в лицо знала. У подканцеляриста гусиное перо за ухом, в руках свиток бумаги и чернильница на веревочке.
Завернули они за избу, и слышно — дубасят кулаками в дверь.
— Не заперто, милые люди, не заперто, — шепчет Маремьяна, а громко сказать не может. Встать с камня хочет — ног нет, отнялись. Тогда тем же, как из-под обвала, шопотом Лизавете: — Беги ты, Лиза, к ним! Веди сюда, уж всё равно.
А Лизавета еще больше ее перепугалась. Без кровинки, белая, глаза остановились, стоит и руками от себя отводит. Будто сон страшный увидела.
Обернулось всё не так уж страшно. Никто Лизиных дерзких слов не слыхал, а драгун с полицейским пришли потому, что по всем избам ходили, — с переписью. Записали в бумагу, кто живет и какое оружие в доме есть.
— Какое же ты оружье назвала? — засмеялся Егор.
А так и сказала: мутовка одна — сметану мешать. Какое у старухи оружье? Ухват да клюка. Ей-богу, так и сказала. Шуткой дело обернулось, а коленки всё ж таки до самой до ноченьки тряслись.
— Ишь ты, Лизавета! Не одни мужики про царицу толкуют, — и наша Лиза про то же.
— Егор!
— Да что, мама? Наше дело сторона, конечно, а люди говорят, будто у нее иноземцы всем заправляют…
— Ох, бесшабашная головушка! Что он мелет?!
Но Егора сегодня ничем не пронять. Еще смеется: уж дальше нашей стороны и ссылать некуда!
— Ничего, мамонька! Всё ладно будет. Как покажу завтра Василию Никитичу эти самоцветики — ого!.. А до царицы какое нам дело? К ней отсюдова и на ковре-самолете, поди, не долететь.
* * *
Утром на другой день — Егор поднялся рано, стал собираться в Главное заводов правление. Намерения своего явиться с камнями к самому главному командиру не оставил, потому одевался с особым тщанием.
Надел новый кафтан, навертел на шею синий платок. Чем не штейгер? Вот сапог новых нет, в каких на поиск в горы ходил, в тех же и в крепость на народ надо показаться. Зато вымыла их Маремьяна и смазала не дегтем, а салом. Потрогал волосы, — отросли как! На воротник сзади легли — придется в цирюльню зайти.
— Мама, мне денег надо. Подстричься.
— Сколько, Егорушка?
— Две копейки.
— Нету двух-то, — виновато сказала Маремьяна, — одна копейка только.
И полезла в заветный сундучок. Деньги бывали, когда доилась корова. Что ни крынка, то копейка. А теперь корова еще не доится. Самое голодное время. Егор жалованья настоящего не получал: считается на испытании. От конторы ему давали только провиант.
— А ты сама меня не обкорнаешь?
— Ну, что ты! Только напорчу.
— А что за мудрость! Горшок на голову, и по краю — чик-чик. Давай.
— Нет, нет. Коли бы ты в лес шел… А то всё испорчу и буду виноватая, что начальству не понравится.
Егор задумался:
— Разве вот что… В ссыльной слободе цирюльник по копейке берет. Дай-ка я к нему схожу.
— А не опоздаешь? Далеко. Ведь это в крепость надо, оттуда в слободу и опять в крепость.
— Я так сделаю: у Шаньгина лодку возьму — и прямо через пруд. Потом водой же в город. Еще скорей выйдет.
— И то, сынок. Ладно ты надумал.
Егор стиснул в руке прохладные самоцветы, словно прощаясь, и сунул в карман. А карман новый, ничего в нем не ношено, — камни лезут туго. Пальнем пропихнул четыре вниз, — а пятый — не утерпел — вытащил обратно: поглядеть на него еще раз. И оказался тот изо всех наилучший.
Лизавета что делает?
— Рассаду поливает.
Егор взялся за шапку:
— Когда награду получу, я ей бусы из корольков куплю. А тебе… тебе, чего только сама захочешь.
Пруд пахнет рыбьей свежестью. Большой пруд Екатеринбургский — с четверть версты будет ширины, а в длину и вся верста.
Егору пришлось его проехать и поперек и вдоль. Гребет, торопится: задержал цирюльник.
Вот и стена крепости. Лодка влетела в городскую часть пруда. Прямо видна плотина с сизыми ивами. Слева — однообразные казармы и мазанная глиной Екатерининская церковь. Справа, в садах, — дома горного начальства. Там словно белый дым — цветет черемуха. Запах ее плывет по сонной воде пруда.
Егор направил лодку в правый угол плотины. Отсюда ближе всего к правлению: плотина как раз посредине крепости.
Лодку привязал к столбу и поднялся на усыпанный разноцветными шлаками берег. На плотине сладкий дух черемухи смешался и исчез в серном смраде, что день и ночь изрыгают плавильные печи медной фабрики внизу за плотиной. Водяные колеса там вращают тяжелые валы, двигают мехи из бычьих шкур и дают дыхание печам.
Работал как-то на этой фабрике и Егор — подкладчиком у плющильного стана. Недолго работал, это еще когда в арифметической школе учился. Работать надо было по ночам, — это трудно. Глаза слипаются, ноги гнутся, вот-вот вместо куска меди свои пальцы под зуб стана сунешь. Стан чеканил монеты: четвероугольные полтины по фунту с четвертью каждая и круглые пятаки. Пятаков на фунт шло восемь штук.