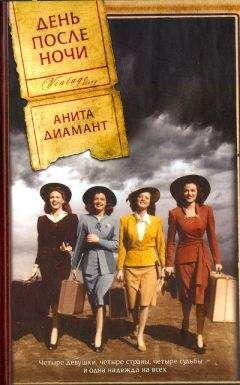Однажды он попытался перевести оборот, который американцы частенько использовали, говоря о британской политике в отношении еврейской иммиграции: «Запирают конюшню, когда все лошади разбежались». На иврите эта фраза оказалась бессмыслицей, и Тирца долго смеялась. Но образ врезался ей в память. Она не раз потом представляла себя одинокой лошадью, несущейся галопом, куда глаза глядят. Часто она задавалась вопросом, известно ли Брайсу ее неудачном браке. Он много знал о ней, главным образом, потому, что много спрашивал. Где она росла? Что ей больше нравилось, когда она была девочкой, – играть в куклы или лазать по деревьям? Любила ли она читать? Кого она помнит из школьных друзей? Когда она отвечала – шепотом, словно выдавала государственную тайну, – он хранил гробовое молчание, ловя каждое слово. Он, вероятно, знал о ней намного больше, в основном из досье. Проследить ее связь с Пальмахом не составляло труда. В самом деле, ведь и то, что Тирца знала о Брайсе, ей сообщили именно там. Кадровый военный, пользуется уважением подчиненных, начисто лишен амбиций, которые помогли бы избежать назначения в такую дыру, как Атлит. Женщина с фотографии на его столе была его женой, но как ее звали, Тирце еще предстояло выяснить. Имена их сыновей она, однако, знала: Джордж и Питер. Оба записались в ВВС. Джордж погиб в начале войны, его сбили над Германией.
Мысли о Брайсе могли застать ее в самый неожиданный момент – за составлением списков, чисткой овощей или мытьем столов. Тирца вспоминала, как мягко и настойчиво он ласкал ее лоно, как ласково целовал ее грудь, с какой нежностью говорил о ее сыне Дэнни. От внезапных приступов радости у нее перехватывало дыхание, и впервые в жизни она благодарила Бога за эти скромные дары. Но уже в следующую минуту она готова была проклясть Создателя за то, что позволил цветку ее счастья расцвести на обреченном стебле.
Брайс повернулся к ней.
– Извини, – сказал он и приложил палец к ее губам. – Как на иврите будет «горький шоколад»?
– Ха, – фыркнула Тирца. – Вот и бытовуха началась.
Его передернуло. Будь их кровать немного шире, он отодвинулся бы, но отодвигаться было некуда, и он просто замер. До следующей смены караула, когда можно уйти незаметно, еще целый час. После долгой паузы он спросил:
– Завтра Дэнни приезжает, да?
Тирца поняла по его тону, что он больше не сердится. Ей пришло в голову, что его чувства к Дэнни помогают ему смириться с потерей младшего сына.
– Да, – ответила она.
– А мне как раз ириски прислали, его любимые. Я их на кухню принесу.
Брайс не появлялся в ее комнате, пока там гостил мальчик, но и не возражал против этих непродолжительных разлук. Когда Дэнни приезжал в лагерь, глаза Тирцы, казалось, начинали светиться, а морщинки в уголках губ разглаживались. Все, что Брайс мог сделать для Тирцы и ее сына, – это угостить Дэнни ириской. Но полковнику хотелось большего. Он мечтал снять для нее квартиру в Тель-Авиве, как снимали другие офицеры для своих любовниц. Тогда можно было бы проводить вместе больше трех часов, вместе ужинать, вместе любоваться закатом.
Но сколько бы полковник ни представлял себе эту сцену, он понимал, что ничего этого никогда не произойдет. Тирца не из таких. Кто знает, как бы все обернулось, пожелай он сверх того, что у них было в душной тесной каморке. Возможно, любовь – или видимость любви – дала бы трещину. Как бы он ни хотел надеяться, что Тирца думает о нем, что бы ни говорили ему ее глаза и губы, он никогда не будет полностью уверен в ее чувствах.
Они давно перестали скрывать свои роли в той трагедии, что разыгрывалась сейчас в Палестине. Тирца открыто расспрашивала его обо всех лагерных делах – вплоть до количества часовых и маршрутов патрулей. А он, добровольный сообщник, подробно отвечал на ее вопросы.
Брайс ненавидел свою должность в Атлите. Он полагал возмутительным держать этих людей взаперти как преступников, особенно после того, как прочитал некоторые отчеты об освобождении концлагерей. Он видел фотографии, которые никогда не публиковались, потому что считались слишком шокирующими. Первое время он даже не мог спать. Но страшнее было другое. Эти снимки делались с самолета два или три года назад. А значит, союзники уже тогда знали и о концентрационных лагерях, и о подведенных к ним железных дорогах. Мысль о том, что ВВС Великобритании могли остановить массовые убийства, разбомбив эти скотобойни, ужасала его куда больше, чем снимки высохших тел, сложенных в штабеля. Он чувствовал себя соучастником тайного преступления и стыдился своей военной формы.
Он мечтал жениться на Тирце и тренировать еврейских солдат для борьбы с арабами, которые готовились к войне против еврейских поселений. Но он знал, что мечты эти неосуществимы. Ему доводилось видеть, как англичане «ассимилировались» в Индии. Профессиональный риск никто не отменял, а платить приходилось женщинам. Он никогда не допустит, чтобы Тирца оказалась в подобной ситуации.
Он также знал, что начальство рано или поздно узнает о его прегрешениях. Его демобилизуют и отошлют домой, где он займется рыбной ловлей, как его отец. И пить будет, как его отец. И будет от корки до корки прочитывать все газеты, выискивая новости из Палестины, гадая, что сталось с Тирцей и ее мальчиком. Будет сочинять длинные, откровенные письма, но так и не напишет ей ни строчки.
Звук шагов согнал их с постели. Тирца, завернувшись в простыню, сидела на кровати и смотрела, как он одевается. Она надеялась, что отношения между ними закончатся прежде, чем Дэнни объяснят, почему он должен ненавидеть полковника.
– Тирца, – сказал Брайс, – на севере неспокойно.
– Я знаю.
Газеты постоянно сообщали о растущей напряженности на границах с Ливаном и Сирией, где беженцы со всего региона пешком пробивались через горы. За время войны антиеврейские настроения в арабских странах усилились, и жизнь там становилась для евреев все опаснее. Дискриминация, преследования и погромы сделались обычным явлением даже в таких местах, как Багдад, где еврейская община процветала вот уже много лет. «Сионистская угроза» объединила арабский мир против еврейских планов создания родины, а заодно против исполнения британцами Палестинского мандата.
В надежде задобрить арабов британские командиры приказали еврейским иммигрантам на северных границах немедленно сдаться. Распоряжение это жители кибуцев дерзко проигнорировали. По слухам, Пальмах послал в помощь беженцам некоторое количество людей призывного возраста – улаживать территориальные споры.
– Я слышал, наши посылают туда еще одну дивизию, – сказал Брайс. – Хотят перекрыть границу. Похоже, будет заваруха. Думаю, тебе это важно знать.
– Ну да. – У Тирцы возникло чувство, будто ей заплатили за услуги.
– Жаль, что нельзя провести с тобой всю ночь. – Он словно не заметил стальных ноток в ее голосе. – Вдруг однажды получится, как ты думаешь?
Тирца представила, как они стоят вдвоем у окна с видом на море. По утрам она варила бы кофе.
Он шагнул к выходу, а она, повинуясь внезапному порыву, вскочила с кровати и обняла его сзади.
– Джонни, — прошептала она.
Сначала она называла его Джонни с тайным умыслом – чтобы не чувствовать себя шлюхой и чтобы заставить его казаться слабее. Потом – чтобы доказать себе, будто ее чувства к нему ничего не значат. Но теперь, как бы она ни старалась выговаривать это имя насмешливо или с прохладцей, оно стало проявлением нежности.
– Лайла тов[10], Джонни, – сказала она. – Спи сладко.
Поскольку Зора ясно дала понять, что общаться ни с кем не желает, она порой целые дни проводила в полном одиночестве. Это ее устраивало, вот только о новых книгах она узнавала последней. Утром доставили посылку с крупным пожертвованием, но к тому времени, как эта новость дошла до Зоры, в коробках почти ничего не осталось.
Все романы и сборники рассказов разобрали, равно как и все, напечатанное на идише, немецком, польском и французском. Пришлось довольствоваться древнееврейской грамматикой с оторванной обложкой да ветхим сборником библейских мифов, переведенных на английский. Следующие три дня Зора провела в бараке, раздевшись по случаю жары до нижнего белья, – она увлеченно решала языковые головоломки.
Зора обожала изучать языки – к ним у нее был талант. Она с головой ушла в древние падежи и устаревшие глагольные времена из рассыпающегося учебника, принадлежавшего некоему Саулу Глиберману. Он оставил свою изящную подпись на внутренней стороне обложки и пометил галочками самые трудные, по его мнению (и по мнению Зоры тоже), места.
Книга мифов оказалась еще более интересной задачей, так как познания Зоры в области английского ограничивались киноафишами в Варшаве и несколькими словами, услышанными в Атлите от британских солдат. Каждую фразу приходилось перечитывать по многу раз, пока в памяти не всплывали родственные слова из других языков. Так, «night» удалось перевести благодаря «nacht» из немецкого и идиша, а польское «noc» и французское «nuit» послужили дополнительной подсказкой.